Перенимая зарубежный опыт…
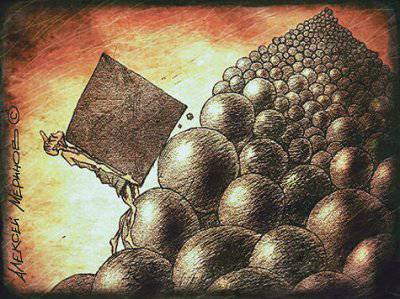 Об остроте проблемы ювенальной юстиции в России в последнее время часто говорилось в целом ряде СМИ. Сайт «Военное обозрение» также неоднократно публиковал материалы о том, в какую форму может быть обращена идея культивации такого понятия как права ребенка без учета прав семьи.
Об остроте проблемы ювенальной юстиции в России в последнее время часто говорилось в целом ряде СМИ. Сайт «Военное обозрение» также неоднократно публиковал материалы о том, в какую форму может быть обращена идея культивации такого понятия как права ребенка без учета прав семьи. Многочисленные общественные организации били тревогу, приводя сотни и тысячи примеров того, в какой вариант вырождается ситуация с ювенальной юстицией, которая еще не успела окончательно оформиться в нашей стране. В публикациях и телевизионных передачах эта тема обнажала все существующие проблемы с защитой семейных ценностей в современном государстве. Немало внимание проблеме ювенальной юстиции было уделено и на проходившем в начале февраля на Архиерейском соборе РПЦ. Русская Православная Церковь высказалась категорически против внедрения чуждых России методов ЮЮ.
Подавляющее большинство россиян, как показывает анализ всех последних событий, а также статистика, приведенная ВЦИОМ, крайне негативно воспринимают всё то, что сегодня пытается быть навязано определенными силами в плане ювенальной юстиции.
Теперь можно с уверенностью констатировать, что вся эта поднятая, простите за пафос, народная волна привела к тому, что на проблему обратил внимание лично президент Владимир Путин. Очевидно, нельзя говорить, что президент вообще не был в курсе проблемы, связанной с ЮЮ, но массированная информационная кампания, раскрывшая сущность понятия ювенальной юстиции, явно позволила руководящей страной элите взглянуть на проблему глазами обычных россиян. Ведь, согласитесь, даже при рассмотрении одного и того предмета с двух сторон (со стороны рядового россиянина и со стороны представителя властной верхушки) этот предмет может выглядеть совсем даже неодинаково. В этой связи особенно обнадеживает то, что президент, который неожиданно для многих прибыл на проходивший в Колонном зале Дома союзов съезд родителей России, фактически раскритиковал навязываемые извне нормы работы с нашими детьми и подростками.
Одной из ключевых фраз в выступлении Владимира Путина на съезде родителей в Москве была фраза о том, что государственное вмешательство в семью возможно лишь в экстраординарных случаях в рамках всесторонней деликатности и без формального подхода, единого для всех. Президент подчеркнул, что Россия не должна слепо копировать иностранный опыт, тем более, если такой опыт сопряжен с нравственными страданиями ребенка и семьи, из которой он силами государственных структур оказался изъятым по тем или иным причинам.
Учитывая тенденции последнего времени, можно с достаточной долей уверенности говорить, что те, кто двумя руками и даже ногами выступал за непременную экстраполяцию законов ювенальной юстиции на просторы России, сегодня будут вынуждены либо менять свою точку зрения на кардинально противоположную, либо проталкивать эту весьма сомнительную идею без поддержки со стороны государства. Слова Владимира Путина можно считать достаточно прозрачным сигналом нашему нынешнему Парламенту, который, честно признать, в последнее время не привык принимать решения, отличные от чаяний российского президента. Во многих других случаях такую тенденцию с «полностью согласным» парламентом можно считать явно не конструктивной, но в случае с законом о ювенальной юстиции, как ни крути, парламентское «нет ЮЮ» тождественно равно защите российских традиций и интересов в плане воспитания подрастающего поколения.
После открытого выступления президента Путина вряд ли стоит сомневаться, что наши законодатели будут иметь иную точку зрения, чем ту, которую высказал глава государства.
Еще раз можно подчеркнуть – это тот самый случай, когда единство мнений главы государства и парламентариев, даже при возможной изначальной дифференциации мнений относительно целесообразности ввода в России институтов ювенальной юстиции, может послужить на благо всей страны, на благо семьи, на благо сохранения отечественных традиций воспитания.
Здесь нужно отметить, что в свое время Государственная Дума (предыдущего созыва) уже рассматривала вопрос о поправках в ФКЗ «О судебной системе РФ». Одна из поправок касалась создания по всей России специальных судов, которые будут рассматривать дела исключительно несовершеннолетних лиц, а также усиление роли государства в плане воздействия на воспитание ребенка. Если в вопросе с наличием ювенальных судов тогда особого негатива не нашли, то вот вопрос вмешательства государства в семейные ценности, когда большинство семей могут ощутить на себе явное давление со стороны ювенальных органов, определяющих судьбу детей, вызывал и в 2010-м году горячие споры. К стану противников внедрения на территории Российской Федерации практики ЮЮ относилась тогда и продолжает относиться сейчас Елена Мизулина – депутат от фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Приведем одну из фраз, которую высказала Елена Мизулина около 3-х лет назад в связи вопросом о выстраивании системы ювенальной юстиции в России:
Депутат фактически вскрыла обратную сторону ЮЮ, а обратная сторона проталкивания положительного решения по ювенальной юстиции – это: а) деньги, б) разрушение института семьи.
Если учитывать, что практика ювенальной юстиции приходит к нам с Запада, на котором в большей степени реализуется пункт «б», то у нас в силу коррупционной специфики чиновничьих, простите, орд на первое место, очевидно, выйдет пункт «а», который в конечном итоге и пункт «б» за собой тоже потянет. Ведь ни для кого не секрет, что в России так называемые «чиновники на местах» - это некие полубоги, которые своими же силами возвели себя в этот ранг. А если у «полубогов» из местных органов опеки и попечительства вдруг не будут сходиться цифры в квартальных сметах и обнаружится проблема недостатка финансирования из госбюджета, то под видом «спасения» детей «из-под ига угнетающих» их родителей местные детские дома и приюты будут «доукомплектованы» так, чтобы все сметы сошлись как нужно…
Для того чтобы осознать, в какое болото мы можем вляпаться с возможным принятием закона, поддерживающего развитие ювенальной юстиции в России, приведем несколько примеров из тех стран, где практика ЮЮ уже успела набрать серьезные обороты.
Швеция. Марианна Зигстрём лишилась своего сына Даниэля силами местных органов опеки, которые с помощью судебных органов ювенальной юстиции определили, что, дескать, мать слишком много внимания уделяет своему 16-летнему ребенку… Казалось бы, за то, что Марианна оказывала большое внимание своему больному эпилепсией сын, ее тем же органам опеки нужно было, как минимум, отблагодарить. Но это мы так считаем. Шведские охранители прав детей и молодежи (а именно этих правоохранителей нам часто ставят в пример) решили иначе. Даниэля Зигстрёма направили в ту семью, которая должна была опекать его меньше, нежели это делала мать молодого человека. В итоге службы опеки своего добились: опекуны Даниэля, прекрасно понимая, за что юношу забрали у его матери, решили, что в особом уходе он не нуждается. Привело это к трагическим последствиям: Даниэлю во время очередного приступа просто никто не помог, и он скончался. Был ли после этого грандиозный скандал международного масштаба, был ли утвержден, к примеру, в США «акт Бергстрём»? Как вы понимаете, никакого шума не было, ведь шведское правосудие – он ж всем правосудиям правосудие… Никакой жестокости, никакого произвола…
Финляндия. В одной из местных газет опубликовано интервью с представительницей финского правительства Марией Гузениной-Ричардсон (министр социальной защиты и здравоохранения). В этом интервью уроженка Забайкалья заявляет, что в Финляндии разыгрываются тендеры на перераспределение детей, изъятых из семей. Финские власти на эти цели выделили, ни много ни мало, 620 миллионов евро. Смысл тендера заключается в том, что представители бизнеса должны, по сути, купить у государства как можно больше детей. Чем больше «накупят», тем больше пособий получат от государства. Но чтобы «накупить», нужно, чтобы соответствующий «товар» на финском рынке появился. А где же его взять? Как вариант: изъять, воспользовавшись трактовками законов ювенальной юстиции. Изъять, к примеру, у лиц, имеющих двойное гражданство. Мол, нефинскими методами воспитываете – отдайте лучше нам, а уже мы реализуем «спецтовар» по выгодным ценам.
Кстати, среди тех детей, которых собирается фактически продать финское государство, есть и 53 российских ребенка… Видимо, госпожа Гузенина-Ричардсон решила слишком уж активно натурализоваться в финку, раз объявляет об инициативе официального Хельсинки как о достижении европейского права…
Франция. В этой стране есть специальная статья Гражданского кодекса, которая звучит так:
В третьей части этой статьи есть слова о том, что разлучение детей с родителями во Франции может быть осуществлено лишь при наличии особой ситуации. Однако все чаще французские суды находят именно «особую ситуацию» в том или ином проявлении семейных неурядиц. Приводит это часто к удивительным ситуациям. Там, где детей нужно немедленно изымать из криминальных семей, органы опеки себя никак не проявляют, а там, где представителей этих органов никто не ждет – они тут как тут.
Вот один из примеров: семилетний Дилан из местечка Мийо три года собственными родителями содержался, по сути, в рабстве в своем же доме. На улицу его не выпускали. Еду и воду родители давали ребенку по разу в день. О существовании нормального туалета Дилан вообще не знал. Для каких целей ребенка удерживали в неволе, решает суд. Но вот, что было до суда.
О рабстве ребенка случайно узнал сосед и обратился в местные органы опеки. Однако никакой реакции не последовало. Мужчина обращался снова и снова, но как ему сообщали, очередь рассмотрения его обращения еще не подошла (к вопросу о чисто русской бюрократии). Тогда он сам решил ворваться в дом, где силой удерживали мальчика. После этого он сообщил в полицию, однако вместо того, чтобы отблагодарить мужественного человека, ему самому грозит тюрьма за нарушение закона о неприкосновенности частной собственности…
Если мы хотим, чтобы эта извращенная система общественных норм, касающихся наших детей, добралась и до России, окончательно разрушая моральные основы и ставя под вопрос адекватность юридическом системы, то проект развития ювенальной юстиции нужно срочно поддержать…
И ведь кто-то обязательно поддержит…
Информация