Чернобыльская тетрадь. Часть 5
6 мая 1986 года
Пресс-конференция Б. Е. Щербины. В его выступлении занижен радиационный фон вокруг аварийного блока и в Припяти. Зачем?
Председатель Госкомитета по использованию атомной энергии СССР А. М. Петросьянц произнес чудовищные слова, оправдывая Чернобыльскую катастрофу:
«Наука требует жертв». Думал, очень умно сказал, а вышло глупо и кощунственно. Гибнут люди...
Маршал С. X. Аганов стрелял кумулятивными зарядами на аварийном блоке. Заряд приделали к стене ВСРО (вспомогательных систем реакторного отделения) со стороны третьего блока, подожгли бикфордов шнур. Пробили дыру в стенах трех помещений. Но на пути оказались трубопроводы и оборудование, которые мешали протянуть трубопровод. Надо было сильно расширять Дыру. Не решились...
В. Т. Кизима предложил другое решение; не стрелять, а прожигать сварочной дугой со стороны транспортного коридора. Есть там такое 009 помещение. Начали подготовку к работам...
Чтобы уменьшить горение графита и гексофторида урана и блокировать доступ кислорода в активную зону, подключили азот к реципиентам и подали его под фундаментный крест аппарата...
Активность в Киеве (воздух) составила первого и второго мая около двух тысяч доз. Сообщил приехавший монтажник. Данные требуют проверки...
7 мая 1986 года
Организован штаб Минэнерго СССР в Москве для оказания оперативной и долговременной помощи Чернобылю. Дежурство по ВЧ до 22.00 в кабинете первого заместителя министра С. И. Садовского.
Совещание у заместителя министра А. Н. Семенова, Предложил ему обваловку аварийного блока с помощью направленного взрыва. Рассмотрели вопрос со специалистами Главгидроспецстроя. Признано невозможным. В грунтах Припяти в основном песок, который направленному взрыву не поддается. Необходимы тяжелые грунты, но таковых там нет. Песок же просто разметает взрывом во все стороны. А жаль! Я бы ставил атомные станции на тяжелых грунтах, чтобы потом, в случае надобности, заваливать их землей, превратив в подобие скифского кургана. Одна-единственная человеческая жизнь дороже самого уникального энергоблока.
В Чернобыль прибыли первые радиоуправляемые бульдозеры: японские «КАМАЦУ» и наши ДТ-250. В обслуживании их есть большая разница. Наш заводится вручную, а управляется дистанционно. В случае, если мотор заглохнет в зоне работы, где высокая радиация, надо посылать человека, чтобы снова завел. Японский «КАМАЦУ» заводится и управляется дистанционно.
Из Вышгорода, где концентрируется техника для Чернобыля, звонил диспетчер. Сказал, что прибыло уже колоссальное количество машин. Водителей очень много. Неуправляемы. Трудно с организацией жилья и питания. Повсеместно пьют. Говорят, для дезактивации. Активность в Киеве и Вышгороде: воздух — 0,5 миллирентгена в час, на поверхности дорог и асфальта — 15—20 миллирентген в час.
Диспетчеру приказал: разбить водителей на десятки и поставить во главе каждой наиболее сознательного. Неподдающихся отправлять по домам. Впредь принимать людей, исходя из необходимости иметь непрерывный резерв на подмену выбывающих из строя (получивших дозу 25 бэр).
В Чернобыле временами резко возрастает активность воздуха. Плутоний, трансураны и прочее. В этих случаях — срочная передислокация штабов и общежитии на новое, более удаленное место. При этом оставляют постельное белье, мебель и другие вещи. На новом месте оборудуют все заново...
Когда в зону бедствия приезжал Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков, люди, в частности, жаловались ему на плохое медицинское обслуживание. Премьер разнес в пух и прах министра здравоохранения РСФСР С. П. Буренкова и его замов...
К сожалению, выяснилось, что у нас в стране нет необходимой специальной техники для устранения и локализации ядерных катастроф, подобных Чернобыльской. Таких, как машины «стена в грунте» с достаточной глубиной траншеи, робототехники с манипуляторами и прочее...
Зам. министра А. Н. Семенов вернулся с совещания у замминистра обороны маршала С. Ф. Ахромеева. Рассказал: совещание представительное, человек тридцать генерал-полковников и генерал-лейтенантов. Был начальник химвойск В. К. Пикалов. Маршал распекал собравшихся, что армия не готова к проведению дезактивации. Нет нужной техники и химикатов...
Конечно, к Чернобыльскому ядерному феномену никто не был готов. Тридцать пять лет академики уверяли всех, что атомные станции безопаснее даже тульского самовара. Жизнь показала, насколько важны верные теоретические предпосылки в оценке развития НТР вообще, и атомной энергетики в частности. Ну, и конечно — правда...
Радиационная обстановка на 7 мая в районе бедствия (принято штабом Минэнерго из Чернобыля по ВЧ):
— вокруг и около АЭС: графит (вплотную) — 2000 рентген в час. Топливо — до 15 тысяч рентген в час. В целом радиационный фон вокруг блока — 1200 рентген в час (со стороны завала).
— Припять — 0,5—1,0 рентген в час (воздух). Дороги, асфальт — от 10 до 60 рентген в час.
— Крыша ХЖТО и ХЖО — 400 рентген в час.
— Чернобыль — 15 миллирентген в час (воздух), земля — до 20 рентген в час.
— Иванков (60 километров от Чернобыля) — 5 миллирентген в час...
Звонок из Чернобыля от начальника стройки В. Т. Кизимы. Жалуется на нехватку легкового транспорта. Водители с машинами, «Москвичи», «УАЗы», «Волги», «Рафики», прибывшие с разных строек, выбрав дозу, уезжают самовольно на своем радиоактивном транспорте. Отмыть машины не удается. Активность в салоне достигает 3—5 рентген в час. Просит дозиметры: накопители и оптические. Острая нехватка. Дозиметры воруют. Уезжающие увозят с собой в качестве сувениров. Самое больное место — организация дозиметрической службы у строителей и монтажников. Эксплуатация деморализована, не обеспечивает и себя...
Связался по телефону со Штабом гражданской обороны страны, получил добро на две тысячи комплектов оптических дозиметров с блоками питания и зарядки с киевской базы. Передал координаты Кизиме. Просил его направить машину...
В штаб Минэнерго СССР звонят по телефону, приходят многие советские граждане, просят направить их в Чернобыль для участия в ликвидации последствий катастрофы. Большинство, конечно, не представляет, какого характера работа их ждет. Но облучение почему-то никого не беспокоит. Говорят: ведь из расчета 25 рентген... Иные прямо заявляют: хотим заработать. Узнали, будто в зоне, примыкающей к аварийному блоку, платят пять окладов...
Но большей частью помощь предлагают бескорыстно. Один демобилизованный солдат из Афганистана сказал. «Ну и что, что опасно? В Афганистане тоже была не прогулка. Хочу помочь стране».
Подготовили проект Постановления правительства по Чернобылю: «О мерах по ликвидации последствии аварии» (обеспечение техникой, автотранспортом, химикатами для дезактивации, льготы для строителей и монтажников). Министр А. И. Майорец доложит сегодня на заседании Политбюро...
20.00. Принято решение подавать жидкий бетонный раствор на завал, чтобы забетонировать куски топлива и графита и тем самым уменьшить радиационный фон Для монтажа трубопровода подачи бетонного раствора срочно требуется 60 сварщиков. Приказ зам. министра А. Н. Семенова начальнику Союзэнергомонтажа П. П. Триандафилиди: «Выделить людей!»
Триандафилиди запальчиво кричит Семенову:
— Мы сожжем сварщиков радиацией! Кто будет монтировать трубопроводы на строящихся атомных станциях?!
Последовал новый приказ Семенова Триандафилиди:
«Подготовить список сварщиков и монтажников и передать в Министерство обороны для мобилизации».
В связи с ожидаемыми ливневыми дождями в районе Чернобыльской АЭС — приказ председателя Правительственной комиссии И. С. Силаева:
«Срочно приступить к перемонтажу ливневой канализации города Припять на водохранилище пруда-охладителя» (ранее была в реку Припять).
«Всему штабу Правительственной комиссии выехать к аварийному блоку для организации срочных мер по закрытию активных кусков графита и топлива, выброшенных взрывом»...
О работах в этом направлении расскажу позднее.
Впереди предстояли еще долгие месяцы напряженной и опасной работы в условиях жестких радиационных полей. И в этих полях будут трудиться десятки тысяч ничего не понимающих в радиации людей...
8 мая 1986 года
В десять утра восьмого мая я получил приказ Е. А. Решетникова — 15-часовым рейсом из аэропорта «•Быково» вылететь на Киев, и далее — в Чернобыль.
Задание было лаконичным: разобраться в обстановке, оценить ситуацию, доложить.
Подписывая командировку, заместитель министра Александр Николаевич Семенов сказал мне:
— Определись, пожалуйста, с радиационными полями. Когда мы там были, никто толком не знал, сколько светит, а сейчас скрывают, врут. Определись, пожалуйста... И вообще... Приедешь — просвети меня, безграмотного, насчет опасности радиации. А то вот сижу стриженый под машинку... И давление прет вверх... Не от атома ли это?..
Вылетели из «Быково» около шестнадцати часов. Долго ждали министра. Он явился с опозданием на час в сопровождении своего помощника по режиму, которого взял к себе на работу в Минэнерго СССР из Минэлектротехпрома, где до того сам работал министром.
Кроме меня, летели еще три замначальника Главных управлений Минэнерго СССР: И. С. Попель — замначальника Главснаба, Ю. А. Хиесалу — замначальника Главэнергокомплекта и В. С. Михайлов — замначальника Союзатомэнергостроя — разбитной и несколько дурашливый, с компанейскими замашками, но с очень цепкими и внимательными, изучающими глазами. Он был весь как ртуть, типичный холерик, минуты не мог посидеть спокойно на одном месте. Обязательно вылезал с какими-то соображениями, инициативами, порою лишенными здравого смысла. Словом, шустрый, хитрый зам-начальника Главка по кадрам и быту.
Юло Айнович Хиесалу — спокойный, тихий, слова лишнего не молвит, а когда молвит, то с сильным эстонским акцентом. Но в высшей степени симпатичный и порядочный человек.
Игорь Сергеевич Попель — энергичный широколицый снабженец веселого нрава.
Все трое впервые в жизни ехали в зону повышенной радиации. И естественно, что это их здорово волновало и заранее взбадривало. Всю дорогу до Чернобыля они тормошили меня, бесконечное число раз расспрашивая об одном и том же: что такое радиация, из чего состоит и с чем ее едят, как защищаться, сколько можно и сколько нельзя хватать рентген?
Спецрейс выполнялся на арендованном Минэнерго СССР самолете Як-40, специально приспособленном возить начальство. Фюзеляж имел два маленьких салона: носовой, в котором располагалось более высокое начальство, и хвостовой, где размещались все остальные. Правда, субординация эта соблюдалась главным образом в дочернобыльскую эпоху. Катастрофа резко демократизировала обстановку в спецрейсах...
В носовом салоне по левому борту в креслах за небольшим столиком друг против друга расположились министр и его помощник по режиму.
По правому борту — друг за другом четыре пары кресел, в которых уселись заместители начальников Главков, начальники производственных отделов и служб различных управлений министерства.
Из всех летевших этим рейсом только я один работал долгое время на эксплуатации атомных станция-Министр же, хотя и провел уже первую ядерную неделю в Припяти и Чернобыле, облучился и сидел теперь остриженный под машинку, не представлял в полной мере, что произошло, события воспринимал поверхностно и не был способен к принятию сколько-нибудь серьезного самостоятельного решения по комплексу возникших проблем без помощи специалистов.
Весь округлый, упитанный, даже жирный, с холеным одутловатым лицом, он сидел теперь молча, ни с кем из своих подчиненных в салоне ни разу не заговорил. На лице его блуждала еле уловимая улыбка.
Я незаметно рассматривал его, и мне казалось, что он изумлен свершившимся, этой внезапно свалившейся на него ядерной катастрофой. И словно было написано на его лице: «И зачем я пришел в эту неведомую мне энергетику, взвалил на свои плечи строительство и эксплуатацию атомных электростанций, в которых ничего не понимаю? Зачем ушел от своих родных электромоторов и трансформаторов? Зачем?..»
Возможно, и не об этом думал министр, но уж явно был изумлен этим обрушившимся на него ядерным «хлебовом». Изумлен, но не испуган. Испугаться он не мог, ибо не понимал, что ядерная катастрофа — это опасно. Более того, он был не согласен, что произошла катастрофа. Просто авария... Небольшая поломка...
Летел с нами также и Кафанов — замначальника Союзгидроспецстроя, высокий, мрачный с виду человек, с одутловатым сизым лицом. Внешне он выглядел олимпийски спокойно. Однако с радиацией ему предстояло также столкнуться впервые.
Я сидел в первом ряду кресел, у окна. Внизу уже был виден широко разлившийся Днепр. Ведь недавно только кончился паводок. Хорошо, что кончился. В противном случае, случись катастрофа месяц назад, вся выпавшая на землю радиоактивность оказалась бы в Припяти и Днепре...
Сзади меня шебуршился Михайлов. Его волновало неизвестное будущее, он хотел заранее все выяснить и спрашивал шепотком, видимо, стесняясь министра:
— Скажи, Григорий Устинович, сколько можно схватать, чтобы ну... бесследно?.. Ну, ничего не было?..
— Не торопись, — осаживал я его, тоже шепотом, — Уже снижаемся. На земле расскажу...
Волновался и Попель. Сзади раздавался его четкий красивый голос:
— У меня давление. Я слыхал, от лучей оно подскакивает со страшной силой. Зачем мне это надо?..
Кафанов и Юло Айнович Хиесалу молчали. Их голосов я не слышал. Изредка только поглядывал я на министра, манекенно улыбающееся лицо которого за все время полета не изменило своего выражения. Серые пустоватые, с оттенком изумления глаза его смотрели в узкое пространство перед собой, рассматривая нечто нам неведомое.
К Киеву подлетали в шестом часу вечера. Приземляться будем в аэропорту «Жуляны». Низко летим над Киевом. Улицы необычно пустынны для часа «пик». Редкие прохожие. Где же народ? Я часто и раньше подлетал к Киеву с этой стороны, бывал в нем, когда работал на Чернобыльской АЭС, но такого безлюдья никогда не было. На душе стало печально.
Наконец приземлились. Министр тут же всех нас бросил и укатил на «ЗИЛе». Его встречали бледный как смерть министр энергетики Украины В. Ф. Скляров и секретарь Киевского обкома. Нас же, простых смертных, встретил начальник Главснаба Минэнерго УССР Г. П. Маслак, худощавый, приветливый, веселый, лысый.
Вся наша команда во главе с Маслаком уселась в голубой «Рафик». Михайлов и Попель сразу, что называется, набросились на Маслака с расспросами. Ведь Маслак был человек из новой, теперь ядерной земли, подумать только! Ущипнуть себя хочется, с украинской ядерной земли...
Маслак сказал, что активность воздуха в Киеве, как передают по радио, — 0,34 миллирентгена в час, что на асфальте значительно больше, но об этом не передают, сколько точно, он не знает, но слыхал, что раз в сто больше. Что это означает, он также не знает, поскольку раньше никогда в жизни дела с атомом не имел. Рассказал он также, что за неделю после взрыва из Киева уехало около одного миллиона человек. В первые дни на железнодорожном вокзале творилось невообразимое, народу больше, чем в дни эвакуации во время Отечественной войны. Цену на билеты спекулянты взвинтили до двухсот рублей, несмотря на дополнительные поезда-выделенные для отъезжающих. Вагоны при посадке брали с боем, уезжали на крышах, на подножках. Но такая паника длилась не более трех-четырех дней. Сейчас можно уже из Киева уехать свободно. А началось, говорит, все с того, что высокопоставленные работники стали тайком вывозить из Киева своих детей. Обнаружилось это просто: классы в школах стали редеть...
Трудно сейчас на фабриках и заводах. Не удается на иных производствах не то что трехсменку — двухсменку организовать. Но те, кто остались, а их ведь абсолютное большинство — проявляют высокий дух и ответственность.
— Но что же это такое — 0,34 миллирентгена в час?! Черт бы меня побрал! — воскликнул нетерпеливый. сильно горбоносый, с седеющей курчатовской бородкой В. С. Михайлов, — Расскажи, Григорий Устинович.
—- Расскажи, расскажи! — завопили все хором, в том числе и киевлянин Маслак.
Что тут поделаешь, пришлось мне рассказать им, что знал.
— Предельно допустимой дозой для атомных эксплуатационников является пять рентген в год. Для всего остального населения — в десять раз меньше, то есть — 0,5 рентгена в год или 500 миллирентген. Разделите на 365 дней в году и получите, что простой смертный имеет право «схватить» за сутки 1,3 миллирентгена. Такая доза оговорена нормами ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Сейчас, то есть на восьмое мая, в Киеве, если верить официальным данным, 0,34 миллирентгена в час, или 8,16 миллирентгена в сутки,—в 6 раз превышает норму ВОЗ. На асфальте же, если верить Маслаку, — суточная доза в 300 раз превышает норму ВОЗ...
«Рафик» еще ехал полупустынными улицами Киева. Время — семь вечера.
—— Говорят, — сказал Маслак, — в первые три дня после взрыва активность в Киеве достигала 100 миллирентген в час.
— Это означает,—разъяснил я,—что суммарная доза за сутки составляла 2,4 рентгена или примерно — две тысячи доз против нормы ВОЗ для простых смертных...
— Ну, знаете! — воскликнул экспансивный Михайлов. И вдруг вскричал: — Маслак! Где твои дозиметры? Ты Главснаб, дай нам дозиметры!
— Дозиметры получите в Иванкове, там уже для вас припасено.
— Останови, останови! — начал тормошить Михайлов шофера — Вот здесь, около винного магазина. Надо взять водяры для дезактивации. Облучишь гонады — и ничего больше не потребуется. Что за жизнь без гонад?
Шофер улыбался, но останавливаться не стал. За прошедшие десять дней он убедился, что не умер, что жить еще можно.
— Нет, натурально! — воскликнул Попель. — Это безобразие. У меня уже подскочило давление. Голова на темечке ломит.
— А ты пописай на темечко, помогает, — посоветовал Михайлов.
— Нет, кроме шуток, — продолжал Попель. — Зачем я там нужен, ничего не понимающий? Приедем, приду к Садовскому и скажу: — Я вам нужен, Станислав Иванович? И если он скажет — «нет», тут же уеду назад... Ты не уезжай, жди, пока мы все выясним, — обратился он уже к водителю.
Тот утвердительно кивнул.
— Я тоже спрошу Садовского, — подал голос Юло Айнович Хиесалу.
— Садовский сам профан в атомном деле. Он же гидротехник, — уточнил Михайлов.
— Он прежде всего первый заместитель министра, — возразил Попель.
Я поглядывал в окно, рассматривая прохожих, лица большинства из которых были озабочены, печальны, угнетены.
Мы миновали площадь Шевченко, междугородную станцию, с которой я часто возвращался в семидесятые годы из командировки рейсовым автобусом в Припять, и выехали за городскую черту Киева.
Я смотрел на мачтовый сосновый лес по сторонам, зная, что здесь теперь тоже (подумать больно) радиоактивная грязь, хотя внешне все так же чисто и прибрано. И народу кругом заметно меньше, и люди печальней, какими-то одинокими кажутся. И машин встречных с чернобыльского направления совсем мало...
Вот миновали Петривцы, Дымер. Дачи, поселки обочь дороги. Редкие прохожие. Дети с ранцами идут из школы после второй смены. И все они вроде и те, но как бы уже другие...
А раньше — народу было полно, оживленное движение, жизнь кипела. А теперь словно замедлилось все. Поредело и замедлилось. И в душе печаль и невольное чувство вины. Все мы, атомные энергетики, виноваты перед этими ни в чем не повинными людьми, перед всем миром. И я виноват. И те немногие мои коллеги, которые хорошо представляли реальную угрозу атомных станций для населения и окружающей природы. Значит, не проявили мы, понимающие, должной настойчивости, чтобы донести до сознания людей эту опасность. Не сумели пробиться через вал официальной пропаганды о якобы полной безопасности АЭС. Такое невольное чувство заполняло душу. И снова мысли о Чернобыле, о Брюханове, обо всем этом минувшем 15-летии атомной энергетики на украинской земле, о причинах, приведших к взрыву...
То, что я описал в предыдущих главах о событиях 26 и 27 апреля, сложилось во мне позднее, после посещения Чернобыля и Припяти, дотошного опроса многих людей, Брюханова, начальников цехов и смен АЭС, участников тех трагических событий. Помог мне разобраться в запутаннейшей ситуации и реконструировать весь ход событий и мой опыт многолетней работы на эксплуатации АЭС, пережитое облучение и пребывание в стационаре 6-й клиники Москвы в семидесятые годы. Ведь полной картины не знал никто. Каждый из очевидцев или участников событий знал лишь свой маленький кусочек трагедии. Я же обязан дать полную и правдивую картину, насколько это возможно. Только полная правда о крупнейшей ядерной катастрофе на планете Земля может помочь людям глубоко осмыслить происшедшее, извлечь уроки и обрести новый, более высокий уровень понимания и ответственности. И это касается не только узкого круга специалистов, но и всех людей без исключения. Во всех странах мира...
А пока... Пока мы ехали в сторону Чернобыля, имея в своем распоряжении незначительный запас довольно общих сведений о происшедшем, которые я получил с 28 апреля по 8-е мая, находясь в Москве...
«Рафик» бежал по широкой и совершенно пустой автостраде «Киев — Чернобыль», еще десять дней назад оживленной и сияющей огнями машин. 20.30 вечера. До Иванкова еще около двадцати километров. Едущие со мною товарищи обговорили уже все о радиации и ее воздействии на организм, устали и тревожно притихли. Иногда только Михайлов или Попель со вздохом произносили:
— Да, братцы... Вот так... — и снова замолкали. .— Спецодежда в Иванкове есть? — спросил я сопровождавшего нас Маслака.
— Должна быть. Я звонил туда.
— Где будет ночевать министр?
— Тоже в Иванкове. Сняли там хату у хозяйки. Шашарин тоже на квартире. Все общежития и жилплощадь энергосетей в Иванкове переполнены. Эвакуировали на днях из Чернобыля рабочих. Подскочила резко активность.
— Надо бы прорваться сегодня в штаб Чернобыля, — сказал я. — От Иванкова еще час езды, с учетом переодевания и ужина — полтора. Надо бы успеть на вечернее заседание штаба Правительственной комиссии...
— Посмотрим, — неопределенно ответил Маслак.
Лишь в девять вечера наш «Рафик» въехал во двор Иванковских энергосетей. Вышли, размяли ноги. В небольшом деревянном бараке, тут же во дворе, на скорую руку закусили. Там была небольшая столовка оперативного персонала энергосетей.
Маслак побежал узнавать, где спецодежда, где нас расселять на ночевку.
Ждали минут тридцать. Во дворе неподалеку возбужденно беседовали друг с другом недавно прибывшие из Чернобыля трое рабочих. Один был в белом, хлопчатобумажном, двое — в синих комбинезонах с дозиметрами в нагрудных карманах. Они то и дело, особенно один — в белом, высокий, лысый, — указывал сорванным с головы чепцом на северо-запад, в высокое, уже вечернее, затянутое грязноватой дымкой небо и выкрикивал:
— Жарит сегодня — две тыщи доз плутония, душит, — он морщился, кашлял, отирал чепцом морщинистое лицо.
— А у меня почесуха, — сказал другой, — все тело зудит, будто аллергия...
— Особенно ноги у щиколоток, — сказал третий и, потянув вверх штанины комбинезона и нагнувшись, стал остервенело чесать ногтями багровые опухшие ноги.
Мы тоже стали смотреть в ту сторону. Небо было зловещим и безмолвным. А мы все смотрели, смотрели туда с таким чувством, будто там война, фронт.
— Здесь, во дворе, сейчас пять миллирентген в час, - сказал лысый в белом комбинезоне.
В дыхалке слегка саднило. Михайлов заволновался:
— Слыхали? Пять миллирентген. У меня на эту гадость точно будет аллергия. — И спросил меня: — А сколько суточная доза для эксплуатации?
— Семнадцать миллирентген.
— Слыхали?! Три часа и — суточная доза! Сколько же мы нахапаем там?
— Все будет наше. Не паникуй.
Вернулся Маслак и сообщил неприятную весть:
— Спецодежды нет, дозиметров нет, ночевать негде. Все забито до предела. Спят буквально друг на друге. Коек не хватает — спят на полу. Едем ночевать в Киев. В Чернобыль в таком виде нельзя, завернут. Это первые дни, говорят, были кто в чем... Я связался с Киевом и дал команду, чтобы мешок со спецодеждой и дозиметры доставили в гостиницу «Киевэнерго». Там и заночуете. Завтра в шесть утра «Рафик» заскочит за вами и отвезет в Чернобыль.
Делать было нечего. Сели в «Рафик» и поехали в Киев. Прибыли в половине двенадцатого ночи. В гостинице «Киевэнерго» уже поджидал нас огромный мешок с хлопчатобумажными синими спецовками, бутсами я шерстяными черными беретами. То, что береты шерстяные, плохо. Шерсть отлично сорбирует радиоактивность. Нужны бы хлопчатобумажные, но их нет. На безрыбье и рак рыба...
Пока товарищи оформляли документы, я вышел во двор. Воздух так же, как в Иванкове, саднил дыхание. Не меньше, стало быть, и здесь. Где-то три-пять миллирентген в час. А по радио, что в вестибюле, только что передали — 0,34 миллирентгена в час. Явно занижают. Зачем?..
Утром — летнее голубое небо, 25 градусов тепла. Бодро уселись в «Рафик» — Михайлов, Медведев, Попель, Хиесалу, Кафанов, Разумный, Филонов. Поехали через Вышгород. Снова та же, что и вчера, картина: притихший Киев, сосредоточенные, обращенные в себя лица редких, спешащих на работу прохожих.
На выезде из Вышгорода, у поста ГАИ — дозиметрист. Такие же дозиметристы с радиометрами на груди и длинными палками датчиков — у постов ГАИ в Петривцах, Дымере, в Иванкове. Останавливают и «обнюхивают» датчиками колеса у редких машин со стороны Чернобыля. Нас пропускают. Возле дозиметрического поста на въезде в Иванков остановили, проверили путевой лист, пропуск в зону. Все нормально. У обочины дороги стоит голубой «Жигуленок» с открытыми настежь дверями и багажником. Внутри — тюки с вещами, ковры. Владельцы, мужчина и женщина, стоят рядом растерянные.
— Откуда вещи? — спрашивает постовой ГАИ, а дозиметрист ощупывает тюки датчиком радиометра.
— Из Чернобыля... Да все чистое... — говорит мужчина
— Не совсем, — говорит дозиметрист. — Пятьсот миллибэр в час...
— Да что же это такое?! — запричитала женщина. — Свое добро и не забери...
Мы двигаем дальше. Позавтракали во вчерашней столовке Иванковских энергосетей и, не мешкая, поехали в Чернобыль.
По обе стороны дороги, насколько хватает глаз, — безлюдные зеленые поля. Не видно оживления в населенных пунктах, хуторах, городках. То ли еще спят, то ли их покинули. Копошатся в пыли куры, десятка полтора овец бредет без пастуха вдоль дороги в сторону Чернобыля. Вон мальчик с ранцем идет в школу. С любопытством оглядел нас в машине, всех одинаково одетых в синее. Вот старуха тянет упирающуюся козу. Мало людей. Стало острее жечь глаза, саднить дыхание.
— О, сегодня злой воздух, — сказал водитель и натянул на нос висевший на шее респиратор «свиное рыло» — так мы называли поролоновые противопылевые респираторы, внешне похожие на отрубленный кончик морды свиньи.
Обогнали колонну миксеров-бетоновозов, что спешили с сухой бетонной смесью в Припять.
Тридцатикилометровая зона. Военный патруль и дозконтроль. Одни в респираторах, другие нет. Стесняются, бравируют. Проверили путевой лист, пропуск в зону. Все в порядке. Поехали дальше.
Навстречу проскочил бронетранспортер. Водитель в респираторе. Лицо строгое, сосредоточенное. Жжет дыхание, все сильнее режет веки. Вслед за водителем все натянули респираторы, кроме меня. Мне почему-то стыдно. Стыдно бить челом перед радиацией, черт бы ее побрал! Впереди на асфальте дороги наносы пыли. Нас обошла «Волга» с министром. Пыльное облако с активностью около тридцати рентген в час окутало «Рафик». Надел респиратор. «Волга» министра скрылась за поворотом. Снова одни на дороге. Изредка обгоняем тяжело ползущий миксер с грузом сухого бетона. И вновь глухо, пусто. На обширных просторах полей, в деревнях и хуторах — ни души. Зелень еще свежая. Но скоро, я знал это по опыту, начнет темнеть, чернеть, пожухнет и станет рыжей хвоя елей и сосен. Набравшие силу зеленя станут хиреть и, как шерсть баранов, эти «волосы» земли будут копить в себе радиацию. Там ее наберется в два-три раза больше, чем на поверхности дорог.
Вновь и вновь приходится отвечать на расспросы товарищей, объяснять, что такое радиация и с чем ее едят. Хотел сказать, что едят ее с чем попало теперь, она повсюду, вне нас и в нас, дышим ею... Но не стал я это говорить. Объяснял по-научному, но воспринимают туго. Прежние объяснения в Киеве почти забыты. И не удивительно. Кроме меня, ведь никто из едущих в «Рафике» раньше никогда не имел дело с радиоактивностью.
Попель жалуется, что болит темечко.
— Поперло давление, — заключает он. — И зачем мне это надо? Войну прошел, столько пережито... Приедем, сразу спрошу Садовского: нужен я здесь?.. Я ведь в Москве больше могу сделать, чем в Чернобыле, в тыщу раз... И в сто раз быстрее...
Михайлов, Разумный, Кафанов то и дело заглядывают в окуляры своих дозиметров. Там констатановая стрелка-нить показывала на шкале количество полученных рентген. Дозиметры нам выдали грубые, со шкалой на пятьдесят рентген. Нужны бы сейчас почувствительнее, например со шкалой рентген на пять...
— А у меня стрелка вообще ушла на минус, левее «нуля», — сказал Разумный. — Что за качество, везде халтура!
— Это ты уже не впитываешь, а отдаешь рентгены, — шутит Филонов. — Уже отдал больше, чем схватил.
— А у меня ровно на «нуле», — заявил Михайлов. — Но глаза жжет и началась почесуха в ногах. — Он остервенело зачесал щиколотки.
— Это у тебя мандраж, Валентин Сергеевич, — сказал Разумный. — От мандража не только аллергия, понос может быть...
Проехала навстречу дождевальная машина. Моет дорогу. Раствор на асфальте пенится. Брызги шуршат по Днищу «Рафика». Давно мне знакомый тошноватый запах десорбирующих растворов. Асфальту, правда, такое мытье, что мертвому припарка. Радиоактивность хорошо сорбируется в битум, и, чтобы сделать асфальт чистым, его надо вырубить и настлать новый. Или хотя бы грязный асфальт покрыть сверху чистым.
Кругом ни души. Не видно птиц, хотя нет, вон вдалеке лениво и невысоко летит ворон. Интересно бы измерить его активность. Сколько он набрал радиации в перья. А вот через несколько километров еще одна живая душа. Навстречу нам со стороны Чернобыля по обочине дороги бежит, взбивая радиоактивную пыль, пегий жеребенок. Растерянный, сиротливый, вертит головой, ищет мать, жалобно ржет. В этих местах скот уже расстреливали. Малыш чудом уцелел...
Беги, беги отсюда, малыш!.. Впрочем, шерсть на нем тоже очень радиоактивна. Но все равно — беги, беги отсюда. Может, повезет...
До Чернобыля совсем близко. Справа и слева — военные лагеря, палаточные городки, солдаты, много техники: бронетранспортеры, бульдозеры, инженерные машины разграждения, сокращенно — ИМРы, с навесными руками-манипуляторами и бульдозерными ножами. Они напоминают танки, только без орудийных башен. И снова палаточные городки. Войска, войска, войска. Это химические части Советской Армии. Их здесь уже около пятнадцати тысяч.
Проехали будто вымершую деревню. Ни единой живой души. Это непривычное безмолвие гнетет. И снова справа и слева поля. Уходящие вдаль радиоактивные зеленя. Вот куры, разгребают лапами и что-то клюют в радиоактивной пыли...
Въезжаем в Чернобыль. Солнце, синее небо без единого облачка, легкая дымка. Асфальт мокрый от растворов дезактивации. Везде на улицах, у обочин — бронетранспортеры. Есть движение автомашин, как потом выяснилось, от штаба к штабу. Здесь кругом штабы. Разных министерств и ведомств. Едем по главной улице.
— Куда ? — спросил водитель. — В райком партии или в ПТУ к Кизиме, там сейчас Управление строительства ЧАЭС...
— В райком, пожалуйста, — попросил я. Патрули в респираторах «свиное рыло», изредка попадаются в респираторах «лепесток-200». На некоторых бронетранспортерах, откинув люки, сидят солдаты, курят. Иные напрямую, некоторые, проткнув дырку в респираторе и воткнув в дыру сигарету. Встречаются и пешеходы. В респираторах. Это те, у которых почему-либо нет машин, а надо срочно пройти по делу то в штаб угольщиков, то минтрансстроевцев.
Подъезжаем к площади райкома партии. Здесь полно автомашин. В основном легковые разных марок, автобусы «Кубанцы», «Рафики», «УАЗы», бронетранспортеры, закрепленные за членами Правительственной комиссии. Вокруг много постовых в респираторах: на площади, у здания райкома, у паркующихся машин.
Все эти легковые и прочие машины придется спустя время закапывать: за месяц-два работы здесь набирают такую активность, что в салоне до пяти и более рентген в час.
На крыльце стоит замначальника Союзатомэнерго Е. И. Игнатенко и еще двое незнакомых мужиков. Игнатенко без чепца, куртка нараспашку, респиратор на шее, курит.
— Привет! Нарушаешь правила РБ, — сказал я.
— Привет! Приехал? Доложись Садовскому.
— Министр здесь?
— Здесь. Только прибыл.
Рядом с крыльцом дозиметрист. Радиометр на груди, водит палкой-датчиком у поверхности земли, переключает диапазоны.
— Сколько? — спросил я.
— От земли — десять рентген в час. Воздух — 15 миллирентген в час.
— А в помещении?
— Пять миллирентген в час.
Вошел в райком. Вслед за мной Попель и Хиесалу. Оба хотят срочно доложить о прибытии Садовскому.
Обошел коридор первого этажа. Каждую комнату занимает отдельная организация. На дверях приколоты кнопками листки, клочки бумаги с надписями: ИАЭ (Институт атомной энергии), Гидропроект, Минуглепром, Минтрансстрой, НИКИЭТ (главный конструктор реактора), Академия наук СССР и многие другие. Вошел в диспетчерскую. Там уже Попель и Хиесалу. Садовский пытает их:
— Зачем приехали?
— Сами не знаем, Станислав Иванович, — с надеждой в голосе выпалил Попель.
— Езжайте немедленно назад! Сегодня же. Машина есть?
— Есть, Станислав Иванович!
Попель и Хиесалу, сияющие, побежали в «Рафик». Их заветная мечта: подальше от радиации — сбылась.
Сам я тоже доложил первому заместителю министра о прибытии. Сказал о задании Семенова и Решетникова.
Садовский уехал в ПТУ, где располагалось Управление строительства Кизимы, примерно в двух километрах от райкома партии.
Я заглянул в комнату с вывеской «ИАЭ». У окна впритык и навстречу друг другу—два письменных стола. За левым столом сидит Евгений Павлович Велихов, за правым — министр А. И. Майорец в таком же, как у меня, синем хлопчатобумажном комбинезоне и шерстяном берете на стриженной под машинку голове. Видно, брали спецовку из одного тюка. Рядом на стульях зампред Госатомэнергонадзора член-корреспондент Академии наук СССР В, А. Сидоренко, академик В. А. Легасов, заместитель министра Г. А. Шашарин, Е. И. Игнатенко. Вхожу, сажусь на свободный стул.
Майорец напирает на академика Велихова:
— Евгений Павлович! Надо кому-то брать организационное руководство в свои руки. Здесь работают сейчас десятки министерств. Минэнерго не в состоянии объединять всех...
— Но Чернобыльская АЭС — ваша станция, — парирует Велихов, — вы и должны организовать, объединять все... — Велихов бледен, в клетчатой рубахе, расстегнутой на волосатом животе. Утомленный вид. Схватил уже около пятидесяти рентген. — И вообще, Анатолий Иванович, нужно отдавать себе отчет в том, что произошло. Чернобыльский взрыв хуже иных атомных. Хуже Хиросимы. Там одна бомба, а здесь радиоактивных веществ выброшено в десять раз больше. И плюс еще полтонны плутония. Сегодня, Анатолий Иванович, надо считать людей, жизни считать...
Я с уважением подумал о Велихове. Подумал, что академик заботится о здоровье людей.
Позднее я узнал, что фраза «считать жизни» приобрела в эти дни новый смысл. На вечерних и утренних заседаниях Правительственной комиссии, когда речь заходила о решении той или иной задачи — например, собрать топливо или реакторный графит возле аварийного энергоблока, пробраться в зону высокой радиации и открыть или закрыть какую-либо задвижку, — председатель Правительственной комиссии И. С. Силаев говорил;
— На это надо положить две-три жизни... А на это — одну жизнь...
Произносилось это просто, буднично, но звучало зловеще.
Спор между Велиховым и Майорцем о том, кто должен быть хозяином положения, продолжался.
Я вышел из кабинета. Мне не терпелось скорее найти Брюханова и поговорить с ним. Сбылось то, от чего я предостерегал его пятнадцать лет назад в Припяти, работая на Чернобыльской АЭС. Все сбылось, и я хотел видеть его. Хотел очень многое сказать ему. Вернее, высказать ему весь свой гнев, всю боль и горечь. Ведь все сбылось. А он тогда был так самоуверен, так упрямо шел своей дорогой, так пренебрегал опасностью, возможностью ядерной катастрофы. И уже казалось, что он почти прав. Десять лет Чернобыльская АЭС — лучшая в системе Минэнерго СССР, сверхплановые киловатты, скрываемые мелкие аварии, доски почета, переходящие знамена. Ордена, ордена, ордена, слава, взрыв...
Гнев душил меня... Мне казалось, что из всех людей здесь — виноват он один. Прежде всего он...
Ибо воплотилась его политика, его идеология минувшего пятнадцатилетия. Фомин оказался пешкой, исполнительной пешкой в волнах этой идеологии. Но только ли его, Брюханова, это идеология? Конечно нет. Брюханов сам всего лишь исполнительная пешка той, минувшей уже, застойной эпохи.
Но кто это?.. В коротком полутемном пролете коридора, прислонившись к стене, стоит маленький, щупленький человек в белом хлопчатобумажном комбинезоне, без чепца, седые курчавые волосы, пудрено-бледное морщинистое лицо, выражение смущения, подавленности на этом лице. Он смотрит на меня. Глаза красные, затравленные...
Я прошел мимо, и тут меня ударило: «Брюханов?!» Я обернулся:
— Виктор Петрович?!
— Он самый, — сказал человек у стены знакомым глухим голосом и отвел глаза в сторону.
Первое чувство, возникшее во мне, когда я узнал его, — было чувство жалости и сострадания. Не знаю, куда подевались гнев и злость на него. Передо мною стоял жалкий, раздавленный человек. Он снова поднял на меня глаза.
Мы долго молча смотрели в глаза друг другу.
— Вот так, — наконец сказал он и отвел глаза. А мне, странно говорить, но стыдно было в этот миг, что я оказался прав. Лучше бы уж я был неправ...
— Ты плохо выглядишь, — нелепо как-то сказал я. Именно нелепо. Ибо сотни, тысячи людей облучались сейчас фактически стараниями этого человека. И тем не менее. Я не мог говорить с ним иначе. — Сколько ты получил рентген?
— Сто—сто пятьдесят,— глухим хрипловатым голосом ответил стоящий в полутьме у стены человек.
— Где твоя семья?
— Не знаю. Кажется, в Полесском... Не знаю...
— Почему ты здесь стоишь?
— Я никому не нужен... Болтаюсь, как дерьмо в проруби. Никому здесь не нужен...
— А где Фомин?
— Он свихнулся... Отпустили отдохнуть...
— Куда?
— В Полтаву...
— Как оцениваешь нынешнюю ситуацию здесь?
— Нет хозяина... Кто в лес, кто по дрова.
— Мне говорили, что ты просил у Щербины разрешения на эвакуацию Припяти 26 апреля утром. Это так?
— Да... Но мне сказали — ждать прилета Щербины, не поднимать панику... Мы тогда многое не сразу поняли, думали — реактор цел... Это была самая тяжкая и страшная ночь... для меня...
— Для всех, — сказал я.
— Это поняли не сразу...
— Что мы стоим здесь? Давай пройдем в какую-нибудь рабочую комнату.
Мы вошли в пустую комнату, что рядом с велиховской, сели за стол друг против друга. Опять глаза в глаза. Говорить было не о чем. Все и так ясно. Почему-то подумалось:
«Он делегат XXVII съезда партии. По телевизору видел. Телекамера несколько раз отыскивала в зале его лицо. Оно тогда было величественное, лицо человека, достигшего вершины признания. И еще... еще... Властное было лицо...»
— Ты докладывал в Киев 26 апреля, что радиационная обстановка на АЭС и в Припяти в пределах нормы?
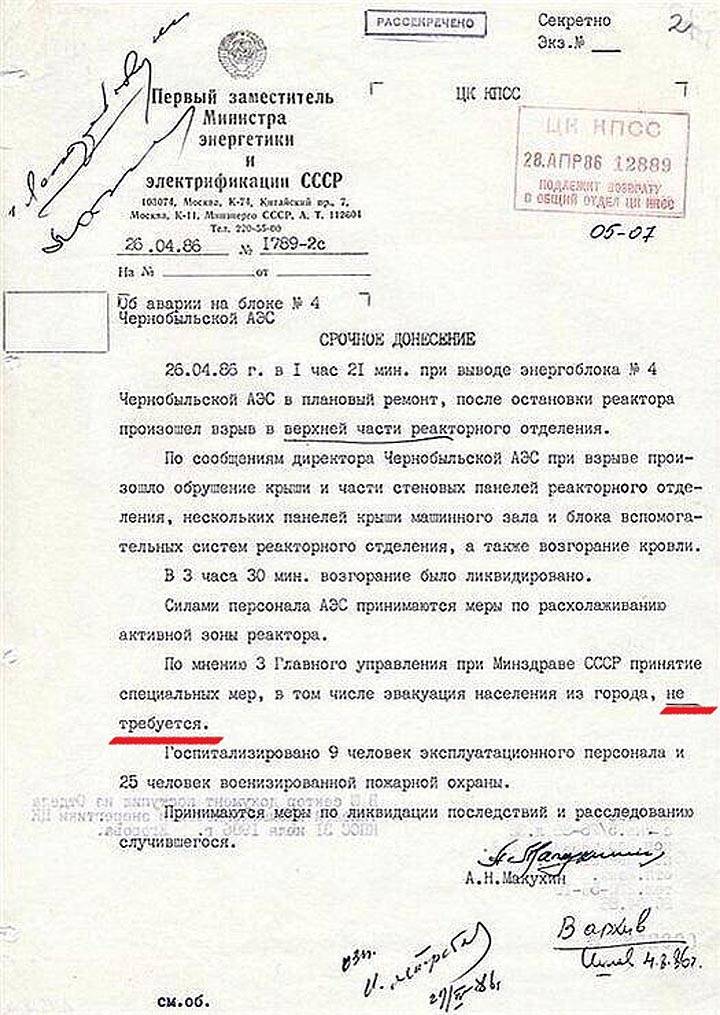
— Да... Так показывали имевшиеся тогда приборы... Кроме того, было шоковое состояние... Помимо воли голова сама проигрывала происшедшее, увязывала это с благополучным прошлым и с полным теперь отсутствием
будущего... Я по-настоящему пришел в себя только после приезда Щербины. Хотелось верить, что еще хоть что-то можно поправить...
Я взял блокнот, чтобы записать, но он остановил меня.
— Все здесь очень грязное. На столе миллионы распадов. Не пачкай руки и блокнот...
Заглянул министр Майорец, и Брюханов, видимо, уже по привычке, с готовностью вскочил, забыв обо мне, и пошел к нему. Скрылся за дверью.
Вошел незнакомый, тоже пудрено-бледный человек (при воздействии доз радиации до 100 рентген происходит спазм наружных капилляров кожи и создается впечатление, что лицо человека припудрили). Представился мне. Оказался начальником первого отдела атомной станции. Горько улыбаясь, сказал:
— Если бы не эксперимент с выбегом ротора генератора, все было бы по-прежнему...
— Сколько вы «схватили»?
— Рентген сто... От щитовидки в первые дни светило сто пятьдесят рентген в час. Теперь уже распалось... Иод-131... Зря не дали людям взять нужные вещи... Многие сейчас очень мучаются. Можно было в полиэтиленовые мешки... — И вдруг сказал: — Я помню вас. Вы работали у нас заместителем главного инженера на первом блоке...
— А я что-то вас запамятовал, простите... Где сейчас сидят ваши эксплуатационники?
— На втором этаже, в конференц-зале и в соседней с ним комнате. В бывшем кабинете первого секретаря райкома...
Я попрощался и пошел на второй этаж.
«Снаружи в воздухе хорошо светит, — думал я, — почему они не экранируют окна свинцом?..»
Прежде, чем зайти в конференц-зал, я медленно прошел вдоль коридора второго этажа — посмотреть, что тут за кабинеты и кто их занимает. Та-ак, понятно... В основном — министры, академики. А вот дверь без надписи. Открыл, заглянул. Продолговатая комната, окна полузашторены. За столом сидел седой человек. Узнал в нем зампреда Совмина СССР И. С. Силаева. В прошлом — министр авиационной промышленности. Сменил здесь Щербину 4 мая.
Зампред молча смотрит на меня. Глаза властно поблескивают. Молчит, ждет, что скажу.
— Окна надо экранировать листовым свинцом, — оставаясь инкогнито, сказал я.
Он продолжал молчать, но лицо его мало-помалу стало обретать жесткое выражение.
Я закрыл дверь и прошел в конференц-зал...
Замечу, что экранирование окон штаба Правительственной комиссии листовым свинцом при Силаеве так и не произвели. Сделали это значительно позже, 2 июня 1986 года при сменившем Силаева зампреде Совмина СССР Л. А. Воронине, когда реактор неожиданно выплюнул из-под наваленных на него мешков с песком и карбидом бора очередную порцию ядерной грязи...
На сцене конференц-зала за столом президиума сидели эксплуатационники с оперативными журналами и по нескольким телефонам поддерживали связь с бункером и блочными щитами управления первых трех блоков АЭС, где дежурил, сменяя друг друга, минимальный состав смен, поддерживающий реакторы в расхоложенном состоянии. У всех сидящих в «президиуме» лица виноватые, нет той былой выправки и уверенности атомных операторов, характерных для времен успеха и славы. Все пудрено-бледные, уставшие, с воспаленными от недосыпания и радиации глазами.
В разных местах зала на стульях — небольшими группками сидят люди, представители разных специальностей, обсуждают вопросы к заседанию Правительственной комиссии.
Прохожу вдоль стола президиума, превращенного в импровизированный пульт управления, к окну. У окна, в переднем ряду кресел, узнаю старого приятеля, начальника химцеха Ю. Ф. Семенова. Он обсуждает с незнакомым мне человеком в спецовке, как выяснилось, мастером, вопросы дезактивации оборудования.
Ю. Ф. Семенова, приехавшего из Мелекесса в Припять в 1972 году, еще я принимал на работу. Он тогда очень рвался на Чернобыльскую АЭС. Специалист он толковый, опытный. Много лет проработал на установках спецочистки радиоактивных вод. Новой работой на Чернобыльской АЭС был доволен и на судьбу, что называется, не жаловался.
— Здорово, старина! — оторвал я его от беседы.
— О-о! Рад видеть тебя! Только вот видишь, в какие времена приехал...
— Приехал вот...
Семенов, тоже пудрено-бледный, за последние несколько лет, что я его не видел, сильно поседел. Смолисто-черные бакенбарды стали совсем белыми.
— Ты же года два, как оформил себе пенсию по первому списку. Хотел оставить цех, уйти на чистую работу?"— спросил я его.
— Да-а... Хотел вот, но замешкался как-то... А теперь — куда уж... Думал в Мелекесс с семьей вернуться, там доживать, но вот видишь... Теперь я здесь нужен.
— Жена, дочь где?
— Они в Мелекессе у бабушки... Вещи вот вывезти не удалось. Все, что нажито, все пропало. И дача и машина. Я только новую купил... В квартире у меня, вчера ездил туда, на всех вещах один рентген в час. Куда с этим денешься? Мы ведь жили в первом микрорайоне. Ему больше всего досталось от радиоактивного облака.
Тут Семенова отозвали операторы. В конференц-зал вошел Е. И. Игнатенко. Заметив меня, подошел.
— Если бы твоя повесть «Экспертиза» (Игнатенко написал к ней предисловие) вышла в свет до взрыва, — сказал он, улыбаясь, — она стала бы библиографической редкостью. Ты как в воду глядел. Гремучей смесью разнесло блок...
— Потому ее и придержали, — сказал я, — чтобы автор не превратился в пророка. Так и было сказано: «Печатать после опубликования выводов Правительственной комиссии». Так что в конце года выйдет.
— Да, натворили дел, — задумчиво сказал Игнатенко, глядя в окно, — долго хлебать будем...
Возле окна — огромный мешок с футбольными камерами, белесоватыми от талька.
— Зачем столько камер? — спросил я.
Один из операторов, что сидел за столом президиума, смущенно улыбаясь, ответил, словно ему было неловко за эти футбольные камеры:
— С их помощью пробы воздуха берем.
— Где?
— Да везде... И в Припяти, и в Чернобыле, и в 30-километровой зоне...
— Это что, вместо «камер Туркина»? («Камера Туркина» — пластмассовая гармошка с клапаном, при растягивании которой внутрь забирается порция воздуха или газа для пробы.)
Оператор засмеялся:
— Футбольные камеры по бедности... Где их возьмешь — «камеры Туркина»? А этого добра навалом...
— Как же вы накачиваете их? Насосом?
— Где насосом, а где и ртом. Велосипедных насосов тоже не напасешься. В нынешних условиях — страшный дефицит...
— Ртом надувать — неточный замер будет, — сказал я. — Вдохнул — и половина радиоактивных веществ в легких осталась. Легкие как фильтр действуют. При каждом вдохе-выдохе в легких идет накопление радиоактивной грязи.
— А что делать? — смеется оператор. — Мы уже надышались столько в первые дни, что на такие пустяки внимания не обращаем...
С Игнатенко прошли в соседнее помещение, бывший кабинет первого секретаря Чернобыльского райкома партии. Во всю комнату П-образный стол. За столом знакомые и незнакомые люди в хлопчатобумажных комбинезонах. В торце стола безучастно сидит пудрено-бледный Брюханов. Поймал себя на мысли, что он примерно так же сидел у себя в кабинете во времена полного благополучия: некоторая отрешенность, безразличие, вроде как он здесь ни при чем.
«Размазня! — вспомнил я максималистскую характеристику Кизимы, данную ему еще в давние времена. — Никогда от него конкретного решения не получишь...»
На столе — разложено несколько фотографий разрушенного реактора, сделанных с вертолета, генплан промплощадки, другие бумаги. Рассматриваем с Игнатенко наиболее удачный снимок. Брюханов показал пальцем на неправильной формы черный прямоугольник на полу центрального зала, заваленного обломками конструкций.
— Это бассейн выдержки отработавшего топлива, — сказал Брюханов. — Битком забит кассетами. Воды в бассейне сейчас нет, испарилась. Кассеты разрушатся от остаточных тепловыделений...
— Сколько там кассет? — спросил я.
— Бассейн полный, штук пятьсот...
— А как ты их возьмешь оттуда? — сказал Игнатенко. — Захороним вместе с реактором...
Вошел высокий стройный пожилой генерал в парадном мундире. Обратился ко всем:
— Кто мне подскажет, товарищи? — спросил он. — Я командую группой армейских дозиметристов. Мы никак не наладим контакт ни со строителями, ни с эксплуатационниками. Где, что измерять — непонятно. Мы не знаем ваших конструкций, подходов к радиационно опасным местам. Надо, чтобы кто-то координировал нашу деятельность.
Игнатенко сказал:
— Работайте вместе с Каплуном. Это начальник службы дозиметрии АЭС. Он все знает. И выносите вопросы на заседание Правительственной комиссии... Вы, наверное, недавно здесь?
— Только прибыли.
— Ну и действуйте, как я сказал.
Генерал удалился.
Время шло. Мне нужна была машина, чтобы проехать в Припять и к блоку. Попросил помощи у Игнатенко.
— Задача сложная, — сказал Игнатенко. — Транспорт нарасхват. У меня лично машины нет. Здесь тыща хозяев. Проси у Кизимы.
Я спустился на первый этаж в диспетчерскую. У телефона ВЧ дежурил заместитель начальника Главтехстроя Минэнерго СССР Е. И. Павлов.
— У тебя машина есть? — спросил я. — Проскочить в штаб Кизимы.
— Нет, к сожалению. Здесь каждый со своей тачкой. Откуда, что и как — черт ногу сломит. Садовский куда-то уехал на своем «Жигуле»...
— Ладно, пойду пёхом. Будь здоров.
Я вышел на улицу.
Припекало солнце. От политого десорбирующими растворами асфальта поднимались ядовитые испарения. Тошнотно-приторный запах. Иду вдоль улицы вверх. Утром обычно щебечут птахи в зеленой листве, приветствуют солнце, А сейчас что-то тихо. И листва какая-то притихшая, вроде заторможенная. Так кажется. Еще не мертвая, но и не та живая, трепещущая, как в чистом воздухе. Зелень листвы какая-то неестественная, будто листья покрыли воском, законсервировали, и они застыли и прислушиваются, принюхиваются к окружающему их ионизированному газу. Ведь от воздуха светит до двадцати миллирентген в час...
Но все же еще живы деревья, еще находят в этой плазме что-то свое, нужное для жизни. Вот и вишни, и яблони в буйном цвету. В отдельных местах уже есть завязь. Но все и цветы, и завязь копят теперь активность. Куда от нее денешься? Кругом она...
У плетня покинутого подворья девушка лет двадцати в белом хлопчатобумажном комбинезоне обламывает ветви цветущей вишни. Получился уже большой букет.
— Из каких мест будете, девушка? — спросил я ее
— Из Ейска... Приехала вот на помощь Чернобыльцам... А что?
— Да нет, ничего... Женихов здесь много. Солдаты-молодцы — на выбор... Девушка засмеялась:
— Нужны мне ваши женихи... Я помогать приехала. . — она окунула лицо в букет.
— Цветы грязные, — сказал я.
— Да ну вас, — отмахнулась от меня девушка и вновь принялась ломать ветки.
Я тоже сломал несколько густо усыпанных белыми цветами веток. Двинул с букетом к Кизиме. Свернул в переулок налево. Много пыли на дороге. Мимо прогромыхал миксер, поднял клубы радиоактивной пыли. Натягиваю респиратор, надвигаю глубже берет. От пыли ведь от 10 до 30 рентген в час...
Управление строительства Чернобыльской АЭС (название еще старое), а короче — штаб Кизимы, находится в бывшем здании ПТУ. У входа и кругом полно народу. Стоят, сидят на лавочках, ходят туда-сюда по делу и без дела. Подъезжающие и отъезжающие машины поднимают долго не оседающие облака пыли. Голубое небо, нещадное солнце, тишь и безветрие. Респираторы у большинства людей висят на шее. Некоторые, когда поднимается пыль, натягивают их на нос. Метрах в тридцати от ПТУ, в хоздворе — вышедшие из строя бетоновозы, миксеры, самосвалы. В общем-то они исправны, но настолько загрязнены радиацией, что, работая на них, облучаешься иной раз больше, чем от окружающей среды Активность в кабинах до десяти рентген в час. Это большая проблема здесь: выход из строя техники от радиации..
Недалеко от крыльца ПТУ — два бронетранспортера, легковые машины: «Москвичи», «Жигули», «УАЗы», «Рафики», «Нивы». Дремлют за рулем или курят около водители.
Идет дозиметрист с радиометром на груди. Датчиком на длинной штанге измеряет активность пыли. У крыльца высокая густая липа. Птиц не слышно. В лучах припекающего солнца упруго звенит большая синяя муха.
Не вся живность исчезла. Мухи есть. И не только большие синие, но и обычные домашние. Много мух внутри здания. По запаху, ударившему в нос, становится ясно, что санузлы здесь работают плохо. В фойе, у входной двери дозиметрист измеряет активность спецовки на невысоком, в защитного цвета комбинезоне, рабочем. Лицо у рабочего буро-коричневое, он возбужден.
— Где был? — спросил дозиметрист, приставляя датчик к щитовидной железе.
— У завала... Еще в транспортном коридоре...
— Больше не ходи туда... Хватит с тебя...
— Сколько взял? — услышал я вопрос рабочего.
— Говорят, больше не ходи туда, — сказал дозиметрист и отошел в сторону.
Я попросил его измерить активность букета цветов.
— Двадцать рентген в час. Выбросьте его подальше... Я вышел на улицу и забросил букет в хоздвор, к радиоактивным машинам.
Вернулся. Заглянул в две-три комнаты. На полу вповалку отдыхают после схваченных доз рабочие в синих и зеленых робах. В одной из комнат молодой парень. привстав на локте, говорил другому:
— Будто цепами тебя измолотили, такая усталость. В сон дико клонит, а заснуть не могу.
— У меня тоже, — отвечает ему товарищ. — Вот они, мои двадцать пять рентген как проявляются...
Пришел к Кизиме. В приемной, у телефона надрывается диспетчер. Говорит с Вышгородом. Понял, что говорит с управляющим треста Южатомэнергострой А. Д. Яковенко.
— Нужны люди на смену! — кричит диспетчер. — Водители нужны! Рядом бригадир... Вот он... Даю трубку... Не надо?. Да они все нахватались уже...
Из кабинета Кизимы вышло несколько человек. Возбуждены. Вхожу. Кизима один. Откупоривает банку мангового сока. На щеках паутина волокон ткани Петрянова от респиратора «Лепесток».
— Привет, Василий Трофимович!
— А-а, привет москвичам! — безрадостно отвечает он. В его приветствиях всегда подначка. Не только сейчас. Всегда так было, сколько его помню. Человек на работе, кто бы он ни был, всегда интересует его прежде всего в деловом плане. Без лирических отступлений поясняет, кивая на банку сока:
— В нем больше всего витаминов, целый комплекс. От радиации помогает, восстанавливает силы.
Он жадно пьет сок. Судорожно дергается кадык.
— Вот, — говорит, — работаю как прораб... Раздался телефонный звонок. Кизима взял трубку.
— Да! Кизима... Слушаю, Анатолий Иванович... Министр, — шепнул он мне, прикрыв микрофон рукой. — Да-да, слушаю. Взять карандаш и лист бумаги? Взял. Рисую наклонную линию под сорок пять градусов, так... Теперь вертикальную... Есть... Теперь горизонтальную. Нарисовал... Получился прямоугольный треугольник. Все? — Он еще некоторое время слушал, потом положил трубку. — Вот, понимаешь, работаю как прораб. Министр Майорец — как старший прораб, а товарищ Силаев, зампред Совмина СССР, — как начальник стройки. Полный бардак. Они же в строительстве ничего не понимают. Вот, пожалуйста, звонок министра. Передал мне рисунок по телефону. Треугольник... — Кизима повернул ко мне листок. — Это он заставил меня изобразить завал возле блока. Говорит, на него качай цементный раствор. Будто я первоклашка и ничего не знаю. А я этот завал пешком обошел еще 26 апреля утром. А потом еще несколько раз. И учти, без всяких дозиметров и респираторов. И сейчас только что оттуда... А он мне, понимаешь, рисуй треугольник. Ну, нарисовал, а дальше что? Мне, честно говоря, они не нужны: ни министры, ни зампреды. Здесь стройка, пусть радиационно опасная, но стройка. Я начальник стройки. Мне достаточно Велихова научным консультантом, военные должны организовать комендатуру и обеспечить порядок. И людей, конечно. Люди-то разбежались. Имею в виду штатный состав стройки. Да и дирекции. У них уехало без документов и выходного пособия более трех тысяч человек-Дозиметрическая служба не организована, радиометров и дозиметров не хватает. Оптические дозиметры, те, что есть, — большинство не работают. Посылаю на дело в опасную зону двадцать пять человек с одним дозиметром и тот неисправный. Но даже неисправный действует магически. Люди доверяют этой железке. А без нее не идут на облучение. Вот у тебя дозиметр... Отдай его мне. С ним пошлю еще двадцать пять человек...
— Вернусь из Припяти — отдам, — пообещал я Кизиме. — А за теми, по которым я договорился со Штабом гражданской обороны страны, ты послал машину? Полторы тысячи комплектов — это выход. Службу организуй сам. Не жди у моря погоды. Возьми на помощь одного опытного «дозика» у дирекции.
— Так и придется делать...
Вошел прораб, руководящий подвозкой сухого бетона к растворному узлу, от которого по трубе будут качать цементную смесь на завал.
— Василий Трофимович, — обратился он к Кизиме.— Нужны водители на замену выбывающих из строя. Мы сжигаем людей. Эта смена уже выбрала всю свою норму. Почти у всех — двадцать пять бэр и больше. Люди плохо себя чувствуют.
— А что Яковенко? — спросил я. — Три дня назад его диспетчер звонил в Москву и жаловался, что трест не может справиться с прикомандированными шоферами, мол, бездельничают, пьют водку, негде расселять, нечем кормить...
— Да что ж он врет! Мне позарез нужны люди!
— Я свяжусь сейчас с Москвой, попрошу, чтобы срочно командировали. Прораб вышел.
— Жжет грудь, кашель, болит голова, — сказал Кизима. — Так все время.
— Почему не экранируешь свинцом окна, кабины автомашин? Это уменьшит облучаемость.
— Свинец вреден, — убежденным тоном говорит Кизима. — Он настораживает людей и сдерживает работы. Я уже в этом убедился. Не надо свинец...
Звонок. Кизима снял трубку.
— Так... Так... А что говорит Велихов? Думает?.. Пусть думает. Прекратите пока подачу смеси на завал.. — Положил трубку. — Гейзеры из жидкого бетона начали бить. На топливо в завале как попадет жидкость, начинается то ли разгон атомный, то ли просто нарушение теплообмена и рост температуры топлива. Резко ухудшается радиационная обстановка.
Стук в дверь. Вошел молодой генерал-майор и с ним еще три офицера: полковник и два подполковника.
— Генерал-майор Смирнов, — представился молодой военный. — Мне рекомендовали обратиться к вам за помощью.
— Садитесь, пожалуйста, — пригласил Кизима, — слушаю вас.
— Наше подразделение прибыло для охраны пруда-охладителя. Вода в нем высокой активности...
— Как в первом контуре во время работы реактора, — сказал Кизима. — Туда ведь пожарными машинами откачивали воду с топливом с затопленных минусовых отметок станции. Минус шестая степень кюри на литр в пруде...
— Так вот, — продолжал генерал, — чтобы не было диверсии, могут взорвать плотину, и вся грязная вода уйдет в Припять и Днепр... Я выставляю по всему периметру дамбы посты, но необходимы какие-то укрытия, защищающие часовых от облучения...
— Я предлагаю лотки, — сказал Кизима. — Есть у нас тут железобетонные лотки длиной два метра каждый. Поставить на попа под некоторым углом один к другому, чтобы получилась «дверь» для входа, и будка готова. Давать команду?
— Давайте! — обрадованно сказал генерал. Кизима позвонил, распорядился. Военные ушли. Я в свою очередь связался с Москвой. Попросил срочно командировать водителей на смену облученным. О том же переговорил с Яковеико. Он обещал, что завтра утром двадцать пять человек прибудут в Чернобыль для подмены.
— Мне бы надо, Василий Трофимович, — сказал я, — проскочить к аварийному блоку. Машину можешь дать на часок-другой?
— С машинами дело дрянь... Водители, которых прикомандировали с атомных строек, набрав дозу, без предупреждения и не дождавшись замены, уезжают па своем транспорте, кстати увозя с собою радиоактивную грязь.
— Распоряжение о новом и дополнительном прикомандировании легковых машин дано вчера в Москве. Сегодня, вернувшись из Припяти, проверю. Даешь машину?
— Здесь один начальник уехал на денек в Киев. Возьми его «Ниву». У нее два ведущих моста, может сгодиться. Прихвати у дозиметристов радиометр. На часок-другой одолжат. — Кизима назвал номер машины. — Шофера зовут Володей.
— Не робкий?
— Парень боевой. Недавно из армии.
Я покинул кабинет Кизимы. Представившись, взял на пару часов у дозиметристов радиометр, проверил и перезарядил свой оптический дозиметр ДКП-50.
К счастью, у Володи оказался спецпропуск в Припять. Через десять минут мы уже выскочили на автостраду в сторону Чернобыльской АЭС. Сотни раз ездил я по этой дороге в семидесятые годы. И позже, когда работал уже в Москве и приезжал сюда в командировку, 18-километровая лента асфальта только здесь, на перегоне от Чернобыля до Припяти, окантована справа и слева розовым бетоном метровой ширины. Это защитные полосы, чтобы не обламывался с боков асфальт. Мы радовались в свое время, что только у нас такая дорога и что меньше средств придется тратить на ремонт дорожного полотна. Но теперь...
— А если возле 4-го блока заглохнет мотор? — с явной подначкой спросил вдруг Володя. — У нас уже случалось такое, правда, не около блока, а в Припяти... Там не так печет...
— Недавно из армии? — спросил я его.
— С полгода как, — ответил Володя.
— Тогда не страшно, — сказал я. — Заведешь, если заглохнет... По какой специальности служил?
— На «УАЗе-469» возил командира полка... А вот и дозиметрический пост. Солдаты химвойск, смотрите, — обратил мое внимание Володя.
На обочине дороги стояла большая зеленая машина-цистерна с навесными приспособлениями: насосы, приборы, шланги...
Со стороны Припяти подъехал «Москвич», его остановили, промерили датчиком колеса, днище, кузов сверху. Пассажиров и водителя попросили выйти. Машину стали мыть десорбирующими растворами. Солдаты в респираторах и матерчатых шлемах, плотно облегающих голову, уши, спадающих шалькой на плечи.
Один из солдат, с радиометром на груди и длинной палкой-датчиком, сделал нам отмашку рукой. Мы остановились. Он проверил спецпропуск, приклеенный Володей к лобовому стеклу. Все в порядке. Обнюхал датчиком нашу «Ниву» — фон.
— Можете ехать, — сказал солдат. — Но учтите — там машину испачкаете. Вон, на «Москвиче» — три рентгена в час. И не отмывается. Не жалко машину?
— У нас радиометр, — показал я на прибор, — будем осторожны.
Солдат внимательно посмотрел на меня своими впитывающими синими глазами и как-то неопределенно покачал головой, мол, меня не обведешь, дядя, и, с силой захлопнув дверцу, разрешающе махнул рукой.
Володя поддал газку. «Нива» летела со свистом. А я смотрел на отороченную розовым бетоном ленту асфальта. Выходит, зря радовались тогда, что не будет отламываться асфальт, подпертый бетоном. А теперь вот — все грязно, очень грязно. И асфальт, и розовый бетон. Все... Зачем?..
Я приспустил стекло и высунул датчик. Интересно было узнать, как нарастает активность с приближением к Припяти.
Справа и спереди, за убегающими вдаль радиоактивными зеленями хорошо был виден белоснежный в лучах майского солнца комплекс Чернобыльской АЭС, ажурное кружево мачт объединенного распредустройства 330 и 750 киловольт.
Я знал уже, что на площадку ОРУ-750 взрывом закинуло куски топлива, и оттуда здорово «сифонит»...
На фоне всей этой шикарной белизны и ажурности болью в душе отдавался страшный вид черного развала 4-го энергоблока.
Стрелка радиометра вначале показала 100 миллирентген в час, а затем уверенно поползла вправо — 200, 300... 500 миллирентген в час. И вдруг — рывок на за-шкал. Я переключил диапазоны. 20 рентген в час. Что это? Скорее всего рентгенный ветерок со стороны аварийного блока. Через пару километров стрелка радиометра снова упала, но на этот раз на 700 миллирентген в час.
Вдали показался хорошо различимый, давно знакомый указатель: «Чернобыльская АЭС имени Ленина» с бетонным факелом. Далее — бетонный знак: «Припять. 1970 год».
Итак: направо, мимо Управления строительства и бетонного завода — к блоку, прямо и чуть левее, куда направлена бетонная стрела указателя,—путепровод через железную дорогу, левее которого станция Янов, — в город Припять, где совсем недавно проживало пятьдесят тысяч жителей. А сейчас...
— Давай, Володя, сначала в Припять, — попросил я.
Володя взял чуть левее, поддал газку, и вскоре мы влетели на путепровод. Перед глазами открылся белоснежный, в лучах солнца, город. На путепроводе стрелка радиометра снова рванула вправо. Я стал переключать диапазоны.
— Быстрей проскакивай это место, — сказал я Володе. — В этом направлении шло облако взрыва. Натрясло здесь... Быстрей...
На большой скорости мы проскочили горб путепровода и стремглав влетели в раскинувшийся перед нами мертвый город. Сразу бросились в глаза и больно ударили — трупы кошек и собак, всюду: на дорогах, во дворах, в скверах — белые, рыжие, черные, пятнистые трупы расстрелянных животных.
Пустой брошенный город, и эти зловещие следы покинутости и необратимости несчастья. Невольно подумалось: «Почему не убирают? Это же...»
— Езжай по улице Ленина, — попросил я Володю, — с нее проще завернуть к дому, где я жил, когда работал здесь.
Строительный номер дома — девятый, я помнил до сих пор.
Посредине улицы Ленина бульвар, молодые, но высокие уже тополя, по бокам дорожки — скамейки, распустившийся кустарник. В конце улицы видно внушительное здание горкома КПСС, правее него — десятиэтажная гостиница «Припять», еще правее — пристань на старице реки Припять. Далее — ресторан, дорога к отелю «Ласточка», где останавливалось приезжее начальство.
Странно выглядел город. Будто раннее, раннее утро. Но только вот очень светло, и солнце в зените. Но все спят мертвым беспробудным сном. Утварь и белье на балконах. Блики солнца в окнах, похожие на бельма, а вот случайно раскрытое окно и, как мертвый язык, выпавшая наружу занавеска, увядшие цветы на подоконниках...
— Стоп, Володя, вот здесь направо. Сбавляй скорость...
Стрелка радиометра «ползала» туда-сюда от одного рентгена до семисот миллирентген в час.
— Езжай медленно, — попросил я. — Вот мой дом... Здесь я жил. На втором этаже. Ишь, как разрослась рябина. Вся в радиоактивном цвету. При мне до второго этажа не дотягивала, а теперь аж до четвертого дотянулась.
Пусто. Плотно зашторенные окна. Но чувствуется, что за этими шторами нет жизни. Уж больно они как-то удручающе неподвижны. Вон велосипеды на балконе вон какие-то ящики, старый холодильник, лыжи с красными палками. Все пусто, глухо, мертво...
На узкой бетонной дороге внутреннего дворика — поперек труп огромного черного, в белых яблоках, дога.
— Останови возле трупа, замерю, сколько набрала шерсть.
Володя заехал левыми колесами на клумбу и остановился. Зелень цветов от радиации почернела, цветы пожухли. Активность грунта и бетона дороги — шестьдесят рентген в час...
— Смотрите, смотрите! — вскрикнул Володя, показывая рукой в сторону трехэтажного здания школы с огромными окнами спортивного зала. Там учился мой сын. Помню праздничный вечер. Актовый зал, радостные лица учеников и учителей...

Классная комната в одной из школ. Припять и окружающие районы еще несколько столетий будут небезопасными для проживания людей. По оценкам ученных, на полное разложение наиболее опасных радиоактивных элементов уйдет около 900 лет.

По узкому проулочку от школы, вдоль стены длинного пятиэтажного дома в нашу сторону бежали две больших тощих свиньи. Они подскочили к машине, взвизгивая, ошалело тыкали мордами в колеса, в радиатор. Затравленными красными глазками поглядывали на нас, поводили рылами вверх, к нам, словно прося чего-то. Движения их были какие-то несогласованные, раскоординированные. Их шатало.
Я подсунул датчик к боку борова — 50 рентген в час, затем к трупу дога — 110 рентген в час. Боров пытался было хапнуть зубами датчик, но я успел отдернуть.
Тогда голодные радиоактивные свиньи принялись пожирать дога. Они довольно легко отрывали из бока уже разложившегося трупа большие куски, раздергивая труп и протаскивая его туда-сюда по бетону. Из провалившихся глаз и ощеренной пасти поднялась стая растревоженных синих мух.
— Вот подлое мушиное отродье, никакая их радиация не берет! Сдавай назад, Володя.
— Куда едем? — спросил он.
— На путепровод — и к разрушенному блоку.
— А если заглохнет мотор? — снова спросил Володя, хитро улыбнувшись.
— Заглохнет — заведешь снова, — в тон ему ответил я. — Поехали.
Вырулив на улицу Ленина, Володя спросил:
— Едем по встречной полосе? Или как?.. Наша сторона вон там. Объезжать сквер?
— Не надо.
— Как-то неудобно. Вроде нарушаем правила уличного движения.
— Ты видишь еще где-нибудь движение? Володя горестно усмехнулся, и мы помчали не по своей стороне мимо трупов собак и кошек к аварийному энергоблоку. Путепровод проскочили на полной скорости. Снова стрелка радиометра рванула на несколько диапазонов вправо и опять упала.
Мы ехали по старой дороге мимо Управления строительства, домостроительного комбината, столовой «Лiсова пiсня» и бетоносмесительного узла.
Справа открылась ужасающая картина разрушенного энергоблока. Весь разлом и завал имели цвет черных обгорелостей. Над полом бывшего центрального зала, где реактор, вверх струились волнистые потоки восходящего, ионизированного радиацией газа. Как-то необычно ново и зловеще в этой разрухе и черноте поблескивали на солнце сорванные с мертвых опор и сдвинутые в сторону барабаны-сепараторы...
До блока метров четыреста.
Посмотри, Володя! — Внутри ограды, рядом с разрушенным блоком и вплотную к завалу ходят солдаты, что-то собирают... — Поворачивай направо. Вот здесь... Дальше... Езжай за здание ХЖТО и остановись вплотную к ограждению.
— Зажарит нас, — сказал Володя, прицельно глянув на меня. Лицо у него красное, напряженное. Мы оба в респираторах.
— Останови здесь... О-о! Да там офицеры тоже... И генерал...
— Генерал-полковник, — уточнил Володя.
— Это, наверное, Пикалов... Они собирают топливо и графит руками. Видишь, ходят с ведрами и собирают. Ссыпают в контейнеры. Вон, расставлены железные ящики...
Графит валялся и за изгородью, рядом с нашей машиной. Я открыл дверь, подсунул датчик радиометра почти вплотную к графитовому блоку. Две тысячи рентген в час. Закрыл дверь. Пахнет озоном, гарью, пылью и еще чем-то. Может быть, жареной человечиной...
Солдаты и офицеры, набрав полное ведро, как-то, мне казалось, неспешно шли к металлическим ящикам-контейнерам и высыпали туда содержимое ведер.
«Милые мои, — подумал я, — какой страшный урожай собираете вы... Урожай застойного двадцатилетия... Но где же? Где миллионы рублей, отпущенных государством на разработку робототехники и манипуляторов? Где? Украли?.. Пустили по ветру?..»
Лица солдат и офицеров темно-бурые. Ядерный загар. Синоптики обещают ливневые дожди, и, чтобы активность не смыло дождями в грунт, вместо роботов, которых нет, пошли люди. Позже, узнав об этом, академик Александров возмущался: «На Чернобыле не жалеют людей. Это все падет на меня...»
А ведь не возмущался, когда выдвинул на Украину взрывоопасный реактор типа РБМК...
Вдали видны навалы песка. Минтрансстроевцы уже роют захватки под реактором. Пробили уже два тоннеля. Потом эстафету у них возьмут угольщики.
— Под бетонную подушку роют, — сказал Володя. — Говорят, бутылка водки под реактором стоит 150 рублей... Для дезактивации.
— Поехали! — приказал я Володе. — Вон, видишь, впереди дорога. Она идет вдоль подводящего канала. По ней свернешь налево.
Едем. Против торца машзала — 200 рентген в час. На дороге, вдоль пристанционного узла трансформаторов — брошенные пожарные машины. Посчитал — девятнадцать штук...
Володя вырулил на дорогу. Поехали мимо ОРУ-750. Стрелка радиометра подскочила до 400 рентген в час. Ясное дело — сюда забросило взрывом топливо. Метров через 200, напротив ОРУ-330, стрелка упала до 40 рентген в час. И вдруг... Ч-черт! Непредвиденное. Дорога завалена (перегорожена) железобетонными блоками. Проезда нет. А рентгены бегут, как время. Левее асфальта железная дорога.
— А ну, Володя, покажи, на что способен. Сворачивай на железную дорогу, и метров 50 по полотну вот па эту бетонку, что ведет к АБК.-1. Вперед!
«Нива» не подвела. И Володя оказался на высоте. Возле АБК-1 активность один рентген в час. На площади перед административным зданием несколько бронетранспортеров. Посредине — строй солдат. Офицер ходит перед строем и ругает подчиненных за то, что они нарушают правила радиационной безопасности: сидят на земле, курят, раздеваются по пояс, чтобы загореть, пьют водку и прочее. У офицера и солдат респираторы не надеты, висят на шее.
«Безграмотность от плохо поставленного обучения, — подумал я. — Ведь от этих молодых парней пойдет потомство... Но даже один рентген в год дает пятидесятипроцентную вероятность мутации...»
— Побудь, Володя, тут, я быстро... Смотри, не уезжай, а то я застряну здесь...
Володя как-то ободряюще-сочувственно улыбнулся.
Захватив радиометр, побежал в бункер. Там чисто. Даже фона нет. Но душно. Полно народу. Как в бомбоубежище во время войны. Столы, кровати по бокам для отдыха персонала. Вон группа отдыхающих дуется в козла. Слышен стук костяшек. Здесь же дежурные дозиметристы, возле телефонов — операторы, у которых связь с БЩУ и со штабом в Чернобыле, в райкоме КПСС. На стене карта радиационных замеров по промплощадке. Но мне не нужна. Замерил сам...
Покинул бункер и поднялся на второй этаж АБК. Тишина, пустота. По переходной галерее прошел на десятую отметку деаэраторной этажерки... Теперь — быстро вперед! Моя цель — блочный щит управления 4-го энергоблока. Я должен увидеть то место, где была нажата роковая кнопка взрыва, посмотреть, на какой высоте застряли стрелки указателей положения поглощающих стержней, замерить активность на БЩУ и рядом, понять, в какой обстановке работали операторы...
Быстрым шагом, почти бегом, пошел по длинному коридору в сторону 4-го блока. До БЩУ-4 примерно 600 метров. Быстрее...
На радиометре — рентген в час. Стрелка медленно ползет вправо. Миновал БЩУ-1 и БЩУ-2. Двери открыты. Видны фигуры операторов. Расхолаживают реакторы. Вернее, поддерживают реакторы в режиме расхолаживания. 3-й блок. Ему уже досталось от взрыва. Активность — два рентгена в час. Иду дальше. Металлический привкус во рту. Ощущаются сквозняки, пахнет озоном, гарью. На пластикатовом полу — осколки выбитых взрывом стекол. Активность — пять рентген в час. Провал возле помещения комплекса «Скала», семь рентген в час. Вот щитовая КРБ второй очереди. Десять рентген в час.
Ощущение, что иду по коридорам и каютам затонувшего корабля. Справа двери в лестнично-лифтовой блок, дальше — в резервную пультовую. Слева — дверь в БЩУ-4. Здесь работали люди, которые сейчас умирают в 6-й клинике Москвы. Вхожу в помещение резервного пульта управления, окна которого выходят на завал. 500 рентген в час. Стекла выбиты взрывом, хрустят и взвизгивают под каблуками. Назад! Вхожу в БЩУ-4. У входной двери — 15 рентген в час, у рабочего места СИУРа (умирающего сейчас Леонида Топтунова) — десять рентген в час. На сельсинах-указателях поглощающих стержней стрелки застыли на высоте двух, двух с половиной метров. При движении вправо активность растет. В крайней правой стороне БЩУ — 50—70 рентген в час. Выскакиваю из помещения и бегом в сторону первого энергоблока. Быстро!..
Вот оно — настало немыслимое. Мирный атом во всей своей первозданной красе и устрашающей мощи...
Володя на месте. Солнце, голубое небо, жара градусов тридцать. Строй посреди площади давно распался, офицер куда-то ушел. Солдаты сидят на бронетранспортерах. Курят. Двое разделись по пояс, загорают. Молодость не верит в смерть. Молодые бессмертны. Здесь это так наглядно. Не выдержал, кричу:
— Парни, хватаете лишние бэры! Вас же инструктировали только что!

В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие около 800 тысяч человек
Белобрысый солдат улыбается, привстал на броне,
— А мы что, мы ничего... Загораем...
— Поехали!
К вечеру 9 мая, примерно в 20 часов 30 минут, прогорела часть графита в реакторе, под сброшенным грузом образовалась пустота, и вся махина из пяти тысяч тона песка, глины и карбида бора рухнула вниз, выбросив из-под себя огромное количество ядерного пепла. Резко выросла активность на станции, в Припяти и в 80-километровой зоне. Рост активности ощущался даже за 50 километров в Иванкове и других местах.
В наступившей уже темноте с трудом подняли вертолет и замерили активность...
Пепел лег на Припять и окружающие поля.
16 мая я улетел в Москву.
УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ
Размышляя об уроках Чернобыльской трагедии, прежде всего я думаю о тех сотнях тысяч людей, судеб которых в той или иной степени коснулась ядерная катастрофа 26 апреля 1986 года.
Думаю о десятках погибших, имена которых мы знаем, и о тех сотнях нерожденных, о прерванных жизнях, имен которых мы никогда не узнаем, ибо они погибли из-за прекращения беременности у женщин, облученных в Припяти 26 и 27 апреля...
Мы обязаны помнить о безмерно высокой плате за десятилетия атомного легкомыслия и преступной самоуспокоенности.
К 17 мая 1986 года Управление ВОХР Минэнерго СССР похоронило с воинскими почестями на Митинском кладбище четырнадцать человек, пострадавших 26 апреля на аварийном блоке и умерших в 6-й клинической больнице Москвы. Это эксплуатационники и пожарные. Борьба врачей за жизнь остальных тяжелых и менее тяжелых больных продолжалась.
Работники аппарата Минэнерго СССР дежурили в клинике, помогая медперсоналу.
В начале семидесятых годов я лежал здесь на девятом этаже, в отделении профессора И. С. Глазунова. Тогда еще не было здания-пристройки слева. Отделение битком было забито больными лучевой болезнью. Были и очень тяжелые случаи.
Запомнился Дима, парень лет тридцати. Подвергся облучению, находясь в полуметре от источника. Стоял к нему спиной и чуть правым боком. Пучок лучей шел снизу вверх. Максимум воздействия пришелся на голени, стопы, промежность, ягодицы. По направлению к голове воздействие ослабевало. Стоял спиной к источнику, поэтому увидел не саму вспышку, а ее отражение на противоположной стене и потолке. Поняв, в чем дело, побежал выключать что-то, для чего сделал одну треть пути вокруг источника. Находился в аварийных условиях три минуты. К случившемуся отнесся очень трезво. Вычислил приблизительную дозу, им полученную. В клинику поступил через час после аварии.
При поступлении в клинику температура — тридцать девять, озноб, тошнота, возбужден, глаза блестят. Говорит жестикулируя, немного по-шутовски представляя случившееся. Однако очень связно и логично. Немного не по себе всем от его шуток. Контактен, тактичен, терпелив.
Через 24 часа после аварии для кореологического анализа у больного из четырех точек (грудина, подвздошные кости, обе спереди и слева сзади) взяли костный мозг. На пункции вел себя спокойно и очень терпеливо. Средняя интегральная доза на весь организм — четыреста рад. На четвертые-пятые сутки — большое страдание стало причинять поражение слизистой рта, пищевода, желудка. Во рту, на языке, щеках — язвы, слизистая отходила пластами, пропал сон, аппетит. Температура тридцать восемь—тридцать девять, возбужден, глаза блестят, как у наркомана. С шестых суток появилось поражение кожи правой голени, отек, чувство распирания в ней, одеревенение, морфинные боли.
На шестые сутки в связи с глубоким агранулоцитозом (падение числа зернистых форм лейкоцитов, ответственных за иммунитет) перелито около четырнадцати миллиардов клеток костного мозга (около семисот пятидесяти миллилитров костного мозга с кровью).
Больного перевели в стерильную кварцующуюся палату. Начался период кишечного синдрома. Стул — 25— 30 раз в сутки с кровью и слизью. Тенезмы, урчания и переливания в области слепой кишки. В связи с тяжелым поражением рта и пищевода шесть дней пищи через рот не получал, чтобы не травмировать слизистые. Внутривенно переливались питательные смеси.
В это же время на промежности и ягодицах появились вялые болезненные пузыри. Голень правой ноги — сине-багровая, отечная, блестящая, гладкая на ощупь.
С четырнадцатых суток началась эпиляция (выпадение волос), причем очень странно. Выпали все волосы справа: и на голове, и на теле. Дима сам про себя говорил, что он как беглый каторжник.
Очень терпеливый, немного утомлял нас своими шутками. Своеобразный юмор висельника, однако он очень здорово подбадривал остальных двоих, облучившихся вместе с ним.
Они совсем раскисли, хотя течение болезни у них было безусловно более легким. Дима писал им юмористические записки в стихах, читал трилогию Алексея Толстого «Хождение по мукам» и говорил, что наконец-то он может спокойно полежать. Но иногда он срывался и очень круто переходил в депрессию. Однако и депрессия эта была не тяжела для окружающих. Очень долго его раздражали громкие разговоры, музыка, шум каблуков. Однажды он наорал в такой депрессии на одну врачиху, что от стука ее каблуков у него понос начинается. Родственников к нему до трех недель не допускали.
С сороковых суток состояние его улучшилось, и на восемьдесят вторые сутки Диму выписали. Осталась глубокая трофическая язва (незаживающая) на правой голени. Сильно хромает. Стоял вопрос об ампутации правой ноги поколенно...
Второй больной — Сергей, двадцати девяти лет. Лежал один в соседней кварцующейся палате. Поступил из НИИ, где манипулировал с радиоактивными веществами в «Горячей камере». Из-за слишком близкого сближения кусков делящегося вещества произошел ядерный всплеск.
Несмотря на сразу же начавшуюся рвоту, рассчитал ориентировочную дозу — десять тысяч рад. Через полчаса потерял сознание. Доставили на самолете в крайне тяжелом состоянии. Многократные рвоты, температура сорок, отек лица, шеи, верхних конечностей. У него были такие руки, что измерять давление обычной манжетой не удавалось. Сестрам приходилось ее надставлять.
Очень терпеливо перенес трепанбиопсию и пункцию костного мозга. Находился в сознании. Через 54 часа после аварии артериальное давление резко упало до нуля. Через 57 часов Сергей скончался от острой дистрофии миокарда...
Мой лечащий врач, с которым я подружился, рассказал мне после моей выписки о кончине Сергея:
«Под микроскопом вообще невозможно было увидеть ткань сердца: ядра клеток образовывали скопления, обрывки мышечных волокон... Это по существу была смерть под лучом от непосредственного воздействия ионизирующей радиации, а не от вторичных биологических изменений. Спасти таких больных невозможно, так как ткань сердца просто ползет...»
Его товарищ Николай, тридцати шести лет, находился при аварии рядом. Прожил 58 суток. Это были сплошные мучения: тяжелейшие ожоги (кожа сходила пластами), пневмония, агранулоцитоз. Ему переливали костный мозг еще по старому методу от шестнадцати доноров. Благодаря всем этим процедурам с пневмонией и агранулоцитозом справились. Кроме того, у него был тяжелейший панкреатит, он сильно кричал от болей в поджелудочной железе. Наркотики не помогали. Успокаивался лишь после наркоза закисью азота.
Была ранняя весна. Кажется, апрель. Как и сейчас в Чернобыле. Светило солнце, и в больнице было очень тико. Я заглянул к Николаю. Он лежал один в стерильной палате. Рядом с кроватью стоял столик со стерильными хирургическими инструментами, на другом столике — мази Симбезон, Вишневского, фурацилин, настойка прополиса, облепиховое масло, стерильный корнцанг с намотанной на него марлечкой. Все это для обрабатывания обнаженной кожи.
Он лежал на высокой наклонной койке Над кроватью — каркас из железных прутьев, на нем мощные лампы, чтобы не было холодно, потому что Николай лежал совсем голый. Кожа от облепихового масла стала желтоватой... Но что это?.. Николай... Владимир Правик... Как все поразительно страшно повторилось!.. Пятнадцать лет спустя — такая же палата, та же наклонная койка с железным каркасом, греющие лампы, по графику включающийся кварц...
Владимир Правик голый лежит на наклонном ложе под железным каркасом с лампами. Вся поверхность тела обожжена радиацией и огнем. Трудно разобрать, где огнем, где радиацией, все слилось. Чудовищные отеки снаружи и внутри. Распухли губы, полость рта, язык, пищевод...
Тогда, пятнадцать лет назад, Николай страшно кричал от болей внутренних органов и кожи. Не умели в то время блокировать боль. Теперь научились. Уж слишком много накопилось в людях боли... Но ядерная боль — особенная, она нестерпима и беспощадна Она доводит до шока и потери сознания. Все тело героя-пожарного переполнила ядерная боль. И тогда кололи морфий и другие наркотики, которые на время купировали болевой синдром. Правику и его товарищам сделали внутривенную пересадку костного мозга. Внутривенно же влили экстракт печени многих эмбрионов для стимулирования кроветворения. Но... Смерть не отступала...
Все уже было у него: и агранулоцитоз, и кишечный синдром, и эпиляция (выпадение волос), и стоматиты с тяжкими отеками и отслоениями слизистой рта...
Но Владимир Правик стоически переносил боль и муки. Этот славянский богатырь выжил бы, победил бы смерть, если бы только кожа не была убита на всю ее глубину...
И казалось, что в таком состоянии не до мирских радостей и горя, не до судеб своих товарищей. Сам ведь на краю гибели. Но нет! Пока мог еще говорить, Владимир Правик пытался узнать через сестер и врачей, что с его друзьями, как они? Живы ли? Продолжают ли еще борьбу, теперь уже со смертью? Он хотел, чтобы они боролись, чтобы их мужество помогало и ему. И когда каким-то непостижимым образом все же доносились вести: умер... умер... умер... — как само дуновение гибели, — врачи говорили больным, что это не у нас, что это где-то в другом месте, в другой больнице... То была ложь во спасение.
И вот настал такой день, когда стало ясно: сделано все, что способна была сделать современная радиационная медицина. Все методы рискованной и обычной терапии применены для борьбы с острой лучевой болезнью, но тщетно. Даже новейшие «факторы роста», стимулирующие размножение клеток крови, не помогли. Потому что нужна была еще живая кожа. А ее у Правика не было ни кусочка. Она вся была убита радиацией. Радиацией были убиты и слюнные железы. Рот пересох, как земля в засуху. Правик поэтому еще не мог говорить. Только смотрел, мигал еще веками без ресниц, которые выпали, смотрел выразительными глазами, в коих порою вспыхивал жгучий огонь протеста и нежелания подчиниться смерти. Потом внутренние силы сопротивления стали ослабевать и постепенно иссякли. Началось умирание, исчезновение плоти на глазах. Он стал таять. сохнуть, исчезать. Это мумифицировались убитые радиацией кожа и ткани тела. Человек с каждым часом, с каждым днем — уменьшался, уменьшался, уменьшался. Проклятый ядерный век! Даже умереть по-человечески нельзя. Умершие — почерневшие высохшие мумии — стали легкими, как дети...
Свидетельствует В. Г. Смагин;
«В Москве, в 6-й клинике на Щукинской, нас поместили сначала на четвертом, а потом на шестом этаже. Более тяжелых, пожарных и эксплуатационников — на восьмом. Среди них пожарные: Ващук, Игнатенко, Правик, Кибенок, Титенок, Тищура; операторы: Акимов, Топтунов, Перевозченко, Бражник, Проскуряков, Кудрявцев, Перчук, Вершинин, Кургуз, Новик...
Лежали в отдельных стерильных палатах, которые кварцевались несколько раз в сутки по графику. Кварцевые лампы были направлены на потолок, чтобы лучи не обжигали. Ведь все мы были страшно загорелые, у нас был ядерный загар...
Физраствор, который всем нам влили в вену в Припятской медсанчасти, на многих подействовал ободряюще, потому что снял интоксикацию, вызванную облучением. Немного лучше себя почувствовали больные с дозами до четырехсот рад. Остальных мучили сильные боли в облученной и обожженной огнем и паром коже. Боль в коже и внутри изматывала, убивала...
Первые два дня, 28 и 29 апреля Саша Акимов приходил в нашу палату, темно-коричневый от ядерного загара, сильно подавленный. Говорил одно и то же, что не понимает, почему взорвалось. Ведь все шло отлично, и до нажатия кнопки «АЗ» ни один параметр не имел отклонений.
— Это меня мучает больше, чем боль, — сказал он мне 29 апреля, уходя навсегда.
Больше он не появлялся. Он лег и уже не вставал. Ему резко стало хуже.
Все тяжелые лежали в отдельных кварцующихся палатах, на высоком наклонном ложе. Над ними греющие лампы. Они лежали голые, потому что вся кожа воспалилась и отекла, ее надо было обрабатывать, больных переворачивать. Всем тяжелым и полутяжелым сделали пересадку костного мозга, применяли „средства роста" — лекарства, ускоряющие рост клеток костного мозга, но тяжелых спасти не удалось...»
Свидетельствует Л. Н. Акимова:
«Возле Саши дежурили его родители и братья-близнецы. Один из братьев отдал ему для пересадки свой костный мозг. Но ничего уже не помогло. Пока мог говорить, он все время повторял отцу и матери, что все делал правильно и никак не может понять, что произошло. Это его мучило до самой кончины. Сказал также, что к персоналу своей смены претензий не имеет. Они все выполнили свой долг.
Я была у мужа за день до смерти. Он уже не мог говорить. Но в глазах была боль. Я знаю, он думал о той проклятой роковой ночи, проигрывал все в себе снова и снова и не мог признать себя виновным. Он получил дозу 1500 рентген, а может быть, и больше и был обречен. Он все более чернел, и в день смерти лежал черный как негр. Он весь обуглился. Умер с открытыми глазами. Его и всех его подчиненных мучила одна только мысль, один вопрос: „Почему?"»
Рассказывает доктор медицинских наук А. В. Барабанова:
«Мы сделали все возможное, чтобы спасти Акимова и его товарищей (пересадка костного мозга, факторы роста), но у них погибла от облучения кожа. А без кожи человек жить не может. Помните рассказ, во времена Александра Македонского мальчика покрасили золотом, и он умер... Акимов не верил, что умрет. Видя, как мучается Топтунов, он спрашивал меня: „Неужели Леня умрет?.."»
«Я посещал Славу Бражника четвертого мая 1986 года. Молодой парень тридцати лет. Пытался расспросить его, что произошло. Ведь никто тогда в Москве толком ничего не знал. Бражник лежал голый на наклонном ложе. Весь отекший, темно-бурый, распухший рот. Через силу сказал, что все тело страшно болит, слабость.
Сказал, что вначале проломило кровлю и на нулевую отметку машзала упал кусок железобетонной плиты, разбил маслопровод. Масло загорелось. Пока он тушил и ставил пластырь, упал еще кусок и разбил задвижку на питательном насосе. Отключили этот насос, отсекли петлю. В пролом крыши полетел черный пепел... Ему было очень тяжко, и я не стал его больше расспрашивать. Все просил пить. Я дал ему боржоми.
— Боль, все болит... Страшно болит...
Я, говорит, не знал, что может быть такая страшная боль...»
Свидетельствует В. Г. Смагин:
«Я был у Проскурякова за два дня до его смерти. Он лежал на наклонной койке. Чудовищно распухший рот. Лицо без кожи. Голый. Грудь в пластырях. Над ним греющие лампы. Он все просил пить. У меня был с собой манговый сок. Я спросил, хочет ли он соку. Он сказал, что да, очень хочет. Надоела, говорит, минеральная вода. На тумбочке у него стояла бутылка „Боржоми". Я напоил его соком из стакана. Оставил банку с соком у него на тумбочке и попросил сестру поить его. В Москве у него родственников не было. И к нему почему-то никто не приехал...
Возле СИУРа Лени Топтунова дежурил его отец. Он же отдал сыну для пересадки свой костный мозг. Но это не помогло. День и ночь проводил у кровати сына, переворачивал его. Леня был весь загорелый до черноты. Только спина светлая. Видимо, на нее попало меньше радиации. Он везде был с Сашей Акимовым, был его тенью. И сгорели они одинаково, и почти в одно время. Акимов умер 11-го мая, а Топтунов — 14-го. Они погибли первыми из операторов...

Многие, кого уже считали выздоравливающими, вдруг умирали. Так умер внезапно на 35-е сутки заместитель главного инженера по эксплуатации первой очереди Анатолий Ситников. Ему дважды переливали костный мозг, но была несовместимость, он отторгал его...
В курилке 6-й клиники собирались каждый день выздоравливающие, и всех мучила одна мысль: „Почему взрыв?"»
Думали-гадали. Предполагали, что гремучая смесь могла собраться в сливном коллекторе охлаждающей воды СУЗ. Мог произойти хлопок, и регулирующие стержни „выстрелило" из реактора. В результате — разгон на мгновенных нейтронах. Думали также о „концевом эффекте" поглощающих стержней. Если парообразование и „концевой эффект" совпали — также разгон и взрыв. Где-то все постепенно сошлись на мысли о выбросе мощности. Но уверены до конца, конечно, не были...»
Свидетельствует А. М. Ходаковский — заместитель генерального директора производственного объединения Атомэнергоремонт:
«Я руководил по поручению руководства Минэнерго СССР похоронами погибших от чернобыльской радиации. По состоянию на 10 июля 1986 года схоронили двадцать восемь человек.
Многие трупы очень радиоактивны. Ни я, ни работники морга вначале этого не знали, потом случайно замерили — большая активность. Стали надевать пропитанные свинцовыми солями костюмы.
Санэпидстанция, узнав, что трупы радиоактивны, потребовала делать на дне могил бетонные подушки, как под атомным реактором, чтобы радиоактивные соки из трупов не уходили в грунтовые воды.
Это было невозможно, кощунственно. Долго спорили с ними. Наконец, договорились, что сильно радиоактивные трупы будем запаивать в цинковые гробы. Так и поступили.
В 6-й клинике через 60 дней после взрыва долечивается по состоянию на июль 1986 года еще девятнадцать человек. У одного из них вдруг на 60-е сутки пошли по телу ожоговые пятна при общем неплохом состоянии».
— Вот как у меня, — Ходаковский задрал рубаху и показал на животе темно-коричневые пятна неопределенной формы. — Это тоже ожоговые пятна, видно, от работы с радиоактивными трупами...
Рассказывает А. В. Барабанова:
«Мы очень хорошо помыли и почистили умерших от радиоактивности. Вынули все внутренности, промыли, дезактивировали. Хоронили довольно-таки чистыми. Но в цинковых гробах. Требование санэпидстанции...»
Свидетельствует В. Г. Смагин:
«В 6-й клинике лечился и главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Максимович Фомин. Пробыл там с месяц. После выписки, незадолго до его ареста, обедали с ним в кафе. Он был бледен, подавлен. Ел плохо. Спросил меня:
— Витя, как ты думаешь, что мне делать? Повеситься?
— Зачем же, Максимыч? — сказал я. — Наберись мужества, пройди все до конца...
С Дятловым мы были в клинике в одно время. Перед выпиской он сказал мне:
— Меня будут судить. Это ясно. Но если мне дадут говорить и будут слушать, я скажу, что все делал правильно.
Незадолго до ареста встретил Брюханова. Он сказал:
— Никому не нужен, жду ареста. Приехал вот к Генеральному прокурору, спросить, где мне находиться и что делать...
— И что говорит прокурор?
— Ждите, — говорит, — вас позовут...»
Арестовали Брюханова и Фомина в августе 1986 года. Дятлова — в декабре.
Брюханов был спокоен. Взял с собой в камеру учебники и тексты для изучения английского языка. Сказал что он теперь, как Фрунзе, приговоренный к смерти.
Дятлов тоже спокоен и выдержан. Фомин потерял себя. Истерики. Сделал попытку самоубийства. Разбил очки и стеклом вскрыл себе вены. Вовремя заметили, спасли.
На 24 марта 1987 года был назначен суд, который отложили из-за невменяемости Фомина.


Слева направо: В. Брюханов, А. Дятлов, Н. Фомин на заседании Верховного суда СССР
На скамье подсудимых оказались шесть работников ЧАЭС:
Виктор Брюханов, директор ЧАЭС.
Николай Фомин, главный инженер станции.
Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера.
Борис Рогожкин, начальник смены станции в ночь аварии.
Коваленко А. П., начальник реакторного цеха № 2.
Лаушкин Ю. А., инспектор Госатомэнергонадзора на ЧАЭС.
Подсудимым были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Украинской ССР: Статья 220 «Нарушение правил техники безопасности на взрывоопасных предприятиях», 165 «Злоупотребление служебным положением» и 167 «Безответственность при исполнении своих служебных обязанностей».
Виктор Брюханов впоследствии говорил, что ему результат суда был ясен с самого начала, поэтому он считал бесполезным защищаться. Брюханов избрал известную тактику советских членов КПСС, оказавшихся на скамье подсудимых, он признавал свою вину по незначительным пунктам обвинения и отрицал по главным. Основную ответственность он перекладывал на Фомина и Дятлова. Фомин признавал вину частично, основную ответственность перекладывал на Дятлова и Акимова (умерший начальник смены четвёртого блока в ночь аварии). Дятлов вину отрицал по всем пунктам обвинения. Утверждал, что причина аварии заключалась исключительно в неправильной конструкции реактора. Рогожкин, Коваленко и Лаушкин вину отрицали. Подсудимые возражали против обвинений по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, указывая, что ни в одном документе АЭС или энергоблок не признаются взрывоопасными. Судьи заключили, что возражения несущественны, поскольку постановление Верховного суда СССР позволяет признать АЭС взрывоопасным предприятием.
Все подсудимые были осуждены. Брюханов, Фомин и Дятлов получили по 10 лет, Рогожкин — 5, Коваленко — 3, Лаушкин — 2. Материалы суда были засекречены и остаются засекреченными по сей день.
Брюханов и Дятлов были освобождены досрочно по состоянию здоровья. У Фомина в заключении развилось психическое расстройство, после чего его перевели в психиатрическую больницу. Коваленко и Лаушкин отбыли сроки.
Помимо уголовного преследования работников станции было возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто своевременно не предпринял мер для устранения недостатков реактора. Это дело было прекращено в связи с амнистией к 70-летию октября.
Разыскал и встретился с заместителем начальника турбинного цеха блока № 4 Чернобыльской АЭС Разимом Ильгамовичем Давлетбаевым. Как я уже писал, он был на БЩУ-4 в момент взрыва. За время аварии получил триста рентген. Вид очень больного человека. Мучает лучевой гепатит. Сильно отечное лицо. Нездоровые, налитые кровью глаза. Но держится молодцом. Подтянут, собран. Стильно подбритые тонкие каштановые усики. Несмотря на инвалидность, работает. Мужественный человек.
Я попросил его рассказать про ту ночь 26 апреля 1986 года. Он сказал, что ему запретили говорить о технике. Только через первый отдел. Я сказал, что о технике все знаю, даже больше, чем он. Нужны подробности о людях.
Но Разим Ильгамович был очень скуп на слова. Говорил все время с оглядкой на первый отдел.
— Когда пожарные появились в машзале, там все уже сделали эксплуатационники. За время аварийных работ в машзале, с 1 часа 25 минут до 5 утра 26 апреля, я несколько раз вбегал на блочный щит управления, докладывал начальнику смены. Акимов был спокоен, четко отдавал распоряжения...
Когда все началось, встретили без паники. Ведь мы по роду своей профессии были готовы к подобному. Не в такой, конечно, степени, но все же...
Давлетбаев возбужден, и я не перебиваю.
Характеризует Александра Акимова, своего вахтенного начальника:
— Акимов очень порядочный и добросовестный человек. Симпатичный, общительный. Член Припятского горкома партии. Хороший товарищ...
Характеризовать Брюханова отказался. Сказал:
— Брюханова не знаю.
Высказал свое мнение о прессе, печатавшей репортажи из Чернобыля.
— Я внимательно следил за прессой. Она представила нас, эксплуатационников, как некомпетентных, неграмотных, почти злодеев. Поэтому под воздействием прессы на Митинском кладбище, где похоронены наши ребята, с могил сорвали все фотографии. Пожалели только фото Топтунова. Совсем еще молодой. Как бы неопытный. Нас считают злодеями. А между тем, десять лет Чернобыльская АЭС выдавала электроэнергию. Хлеб нелегкий, вы знаете. Сами работали...
— Когда вы покинули блок? — спросил я.
— В 5 утра. Началась острая рвота. Но мы все успели сделать: и погасили пожар внутри машзала, и вытеснили водород из генератора, и заместили водой масло из маслобака турбины...
Мы не были чистыми исполнителями. Мы многое переосмысливали. Но во многом «поезд уже ушел». Имею в виду технологический процесс на момент приема смены. И остановить его было уже невозможно. Но мы не были простыми исполнителями...
Да, во многом можно согласиться с Давлетбаевым. Атомные операторы — не просто исполнители. В процессе эксплуатации атомных станций им приходится принимать массу самостоятельных и ответственных решений) зачастую очень рискованных, чтобы спасти блок, с честью выйти из аварийной ситуации или тяжелого переходного режима. Всего многообразия всевозможных сочетаний режимов и неполадок никакими инструкциями и регламентами, к сожалению, не предусмотришь. И тут важны опыт и глубина профессионализма эксплуатационников. И Давлетбаев прав, говоря, что после взрыва операторы показали чудеса героизма и бесстрашия. Они достойны преклонения.
И все же... В тот самый роковой миг перед взрывом профессионализм и опыт не сработали ни у Акимова, ни у Топтунова. Оба показали себя чистыми исполнителями, хотя слабая попытка сопротивления грубому нажиму Дятлова возникла у обоих. Это был тот самый момент, когда у операторов включился профессионализм, но... страх перед окриком взял верх.
Не сработал профессионализм и у опытного, осторожного Дятлова, у начальника смены АЭС Рогожкина, у главного инженера Фомина, директора Брюханова.
Но если мужество и бесстрашие у атомных операторов после взрыва стали главной движущей силой, то у Брюханова и Фомина профессионализм и честность не сработали и после катастрофы. Их ложь в собственное спасение, попытка выдать желаемое за действительное долго еще вводили всех в заблуждение, и это стоило новых человеческих жизней...
Так в чем же, на мой взгляд, главный урок Чернобыля?
Он прежде всего в том, что эта страшная ядерная беда взывает нас к Правде. Рассказать правду, всю правду и только правду. Это прежде всего. Исходя из правды, следует второй вывод:
Реакторы типа РБМК по конструкции порочны и несут в себе возможность «положительного останова», то есть взрыва, и впредь, несмотря на все принятые меры. Ведь этот реактор по-прежнему имеет положительный температурный, паровой и концевой эффекты реактивности, суммарное значение которых слишком велико. Собрать эти эффекты в сумму непросто, но возможно. В Чернобыле они сошлись вместе и показали, что из этого выходит.
Чернобыль, как и все трагедии в прошлом, показал, насколько велики мужество и сила духа нашего народа. Но Чернобыль же взывает к разуму и аналитической мысли: не забудьте, люди, посмотреть на происшедшее ясным взором, не дайте залакировать беду.
Конечно, приняты правильные решения для АЭС с РБМК:
— модифицировать концевые выключатели стержней СУЗ, чтобы в крайнем верхнем положении поглощающие стержни были еще погружены в активную зону на глубину 1,2 метра.
Эта мера увеличит скорость эффективной защиты и устранит возможность постоянного увеличения размножающих характеристик активной зоны в ее нижней части по мере опускания стержней от верхних отметок;
— число стержней-поглотителей, постоянно присутствующих в активной зоне, будет увеличено до 80—90 штук, тем самым уменьшая коэффициент пустотности активной зоны до терпимого значения. Это временная мера, которая позже будет заменена переводом РБМК на топливо
с начальным обогащением 2,4 процента с установкой неподвижных дополнительных поглотителей в активную зону, чтобы в случае ЧП положительный выброс реактивности не превышал одну бету. А ведь при взрыве в Чернобыле он достиг пяти бета и более...
— и последнее: постепенный вывод из эксплуатации АЭС с реакторами типа РБМК и замена их тепловыми электростанциями, работающими на газообразном топливе, представляется наиболее правильным выводом, исходя из уроков Чернобыльской трагедии.
Хочется верить, что это произойдет. Ибо говоря о любых научно-технических достижениях человека разумного, об атомной энергетике, в частности, не надо забывать, что все эти достижения должны служить процветанию жизни, а не ее погибели.
И потому самый главный урок Чернобыля — это еще более обостренное ощущение зыбкости человеческой жизни, ее уязвимости. Всемогущество и бессилие человека продемонстрировал Чернобыль. И предостерег: не упивайся своим могуществом, человек, не шути с ним, не ищи в нем суетных благ, утех, блеска славы. Пристальней и все ответственней вглядывайся в себя и в созданное тобой. Ибо ты причина, но ты и следствие. Бесконечная череда счастливых и трудных лет в будущем. Для него все созданное тобой. И тем горше смерти и увечья Чернобыля. В конечном счете это мучает больше всего, те, рассеченные радиацией нити хромосом, убитые или изуродованные гены. Они уже ушли в будущее. Ушли, ушли... Люди еще встретятся с ними. И это самый страшный урок Чернобыля.
А те, кто ушли из жизни раньше, почти сразу после взрыва, кто покинул нас, агонизируя в страшных мучениях ядерной смерти...
Сердце болит о них, душа помнит. Хочется еще и еще раз увидеть этих ребят. Их мало, тех, кто в земле, но с ними ушло столько боли, столько страданий, которых хватило бы на миллионы живых. Они сконцентрировали в себе, символизируют тысячи и миллионы смертей и оставили на земле боль сурового предостережения.
Склоним головы перед ними — мучениками и героями Чернобыля.
Свидетельствует Ю. Н. Филимонцев:
«Ездили после Чернобыля на Игналинскую АЭС. Там, в свете Чернобыльской аварии, проверили физику и конструкцию реактора. Сумма положительных коэффициентов реактивности еще большая, чем в Чернобыле, во всяком случае — не меньше. Паровой эффект — четыре беты. Ничего не предпринимают. Спросили: почему не пишете по инстанции? Ответили: а что толку писать? Бесполезно...
Тем не менее, выводы комиссии о реконструкции всех реакторов типа РБМК в сторону повышения безопасности неукоснительно приняты к исполнению...
Правительству представлено несколько актов расследования. В том числе акты Минэнерго СССР, Правительственной комиссии и Минсредмаша. Все внешние организации сделали выводы против Минэнерго. Они сводились к тому, что виновата эксплуатация, а реактор здесь ни при чем. Минэнерго же, наоборот, представил более взвешенные и сбалансированные выводы, указав на вину эксплуатации и на порочную конструкцию реактора.
Щербина собрал все комиссии и потребовал согласованного заключения для предоставления в Политбюро ЦК КПСС...»
МИТИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
В первую годовщину чернобыльской катастрофы я поехал на Митинское кладбище почтить память погибших пожарников и атомных операторов. От станции метро «Планерная» на 741 автобусе через двадцать минут езды, сразу за деревней Митино, раскинулся огромный город мертвых.
Кладбище совсем новое, чистенькое. Могилы уходят за горизонт. Слева от входа — аккуратный, облицованный желтой керамической плиткой, непрерывно действующий крематорий, из трубы которого шел быстрый черный дымок.
Справа от входа — кладбищенская контора.
Кладбище молодое. Посаженные на могилах деревья еще не выросли. По весне стоят пока темные, с нераспущенными листьями. В разных местах кладбища, над могилами, взлетают и садятся стаи воронья: расклевывают оставленные на могилах: яйца, колбасу, конфеты...
Иду по главной кладбищенской улице. Метрах в пятидесяти от входа, слева от дороги — двадцать шесть-могил с белокаменными надгробьями. Над каждой могилой небольшая мраморная стела с гравированной золотой надписью: фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти.
Могилы пожарных, их шесть, утопают в цветах: вазочки и горшочки с живыми цветами, венки искусственных цветов с красными лентами и надписями на них от родных и сослуживцев. Пожарные страны помнят своих героев.
На могилах атомных операторов цветов поменьше, венков вообще нет. Министерство атомной энергетики и Минэнерго СССР не вспомнили в годовщину Чернобыля о павших. А ведь они тоже герои, они сделали все, что смогли. Проявили мужество и бесстрашие. Отдали жизни...
Но лежат здесь и те, кто случайно оказался той роковой ночью у места трагедии, не понимая подлинного значения происходящего.
Ясное голубое небо, солнце, теплынь. Грай взлетающего и садящегося на могилы воронья, уходящая вдаль до горизонта главная улица кладбища, и на ней люди, люди, идущие к дорогим могилам.
Невдалеке от захоронения чернобыльцев послышались звуки автоматных выстрелов. Посмотрел в ту сторону. Взвод солдат салютовал из «Калашниковых». Подошедший мужчина сказал, что хоронят солдата, погибшего в Афганистане.
На могильных стелах пожарных выгравированы золотые звезды. Здесь лежат Правик, Кибенок, Игнатенко, Ващук, Тищура, Титенок...
Над могилами же атомных операторов, на мраморных надгробиях, нет никаких знаков отличия. Нет и фотографий, которые вначале были. Теперь осталась только фотография на могиле Леонида Топтунова. Совсем еще мальчишка, усатенький, круглолицый, пухленькие щеки. Отец его возле могилы соорудил аккуратную красивую скамеечку. Мне показалось, что у Топтунова самая любовно ухоженная могила.
Двадцать шесть могил... В шести из них покоятся герои-пожарные. В двадцати остальных: операторы 4-го энергоблока, электрики, турбинисты, наладчики. Две женщины — Клавдия Ивановна Лузганова и Екатерина Александровна Иваненко, работницы военизированной охраны. Одна была на проходной напротив 4-го блока, дежурила там всю ночь до утра. Вторая — в строящемся ХОЯТе (хранилище отработавшего ядерного топлива) — в 300 метрах от блока. И в этих могилах тоже есть подлинные герои, чье мужество спасло станцию в не меньшей степени, чем мужество пожарников. Я уже говорил о них ранее. Вот они: Вершинин, Новик, Бражник, Перчук — машинисты турбинного зала, которые погасили пожар изнутри, пожар, развитие которого имело бы страшные последствия для всей АЭС. Чем же награждены они? Насколько мне известно, к наградам они не представлены. Не награжден и начальник смены реакторного цеха Валерий Иванович Перевозченко, сделавший все возможное и невозможное, чтобы спасти подчиненных ему людей, вывести их из зон высокой радиации.
Не награжден и заместитель главного инженера по эксплуатации первой очереди Анатолий Андреевич Ситников, не пощадивший жизни, чтобы разобраться, что же на самом деле произошло с 4-м реактором.
Не награжден и лежащий здесь виброналадчик харьковчанин Георгий Илларионович Попов, который и вовсе случайно оказался там, но машзал не покинул и всем, чем мог, помогал турбинистам тушить пожар в машзале. Хотя мог уйти и остаться живым.
Не награжден электрик Анатолий Иванович Баранов, который вместе с Лелеченко локализовал аварийную ситуацию на электрооборудовании, замещая водород в генераторе, подавал питание на 4-й блок в условиях бешеных гамма-полей.
Лелеченко похоронен в Киеве. Посмертно он награжден орденом Ленина.
В связи с наградами следует сказать еще об одном факте. Материалы по награждению атомных операторов, живых и мертвых, готовились под завесой страшной секретности. Почему, спрашивается? Мне, по крайней мере, это непонятно. Непонятно тем более, что ненагражденными в итоге оказались и подлинные герои, которыми живые должны гордиться. Должны гордиться их семьи, дети, внуки...
И мне думается, справедливость восторжествует. Героизм не спрячешь.
Иду вдоль могил, подолгу останавливаясь возле каждой. Кладу к надгробиям цветы. Пожарники и шестеро атомных операторов скончались в страшных муках в период с 11-го по 17-е мая 1986 года. Они получили наибольшие дозы облучения, больше всех приняли радионуклидов внутрь, тела их были сильно радиоактивны, и, как я уже писал, они были похоронены в запаянных цинковых гробах. Так требовала Санэпидстанция, и я думал об этом с горечью, ибо земле таким образом помешали сделать ее извечную и нужную работу — превращение тела умершего в прах. Вот он, чертов атом! Даже смерть, даже захоронение не такое, как у нормальных людей. Даже здесь, в извечном человеческом исходе, нарушаются тысячелетние человеческие традиции. Вот ведь как получается...
И все же говорю им: мир праху вашему, спите спокойно. Ваша смерть всколыхнула людей. Они хоть на вершок отошли от спячки, от слепой и серой исполнительности...
Но как много еще надо сделать! Какие уроки предстоит еще извлечь. Какую борьбу выдержать, чтобы сделать нашу землю по-настоящему чистой и безопасной для жизни и счастья...
А ведь атомные бюрократы не дремлют. Пришибленные несколько Чернобыльским взрывом, они вновь поднимают голову, восхваляя совершенно «безопасную» силу мирного атома, не забывая одновременно и о сокрытии правды. Ибо лить елей мирному атому, воскуривать фимиам можно только в одном случае, если скрывать правду. Правду о сложности и опасности труда атомных энергетиков, потенциальной опасности атомных станций для окружающей природы и ничего не смыслящих в радиации людей вокруг.
То-то министр энергетики и электрификации СССР А. И. Майорец уже и приказ № 90-с от 18 июля 1986 года выпустил, в котором строго-настрого запрещает своим подчиненным говорить правду о Чернобыле в печати, по радио и на телевидении. Чего, спрашивается, боится министр? Понятное дело. Боится потерять свое кресло. А чего бояться? Взял бы да покинул его добровольно. Не по праву ведь занимает: ни знаний, ни опыта...
Но не покинет ведь. Зря надеемся. А надо бы. И скорее. Проку больше будет. Ибо нам всем нужна правда. Только правда, и вся правда, ибо...
Тут я хочу привести, очень трезвые, на мой взгляд, выдержки из статьи американского ученого-атомщика К. Моргана, призывающего людей к бдительности.
С удовольствием привел бы подобные слова академиков А. П. Александрова или Е. П. Велихова, например, но они таких слов не произносили.
Так вот что сказал К. Морган:
«В настоящее время стало очевидным, что не существует такой малой пороговой дозы ионизирующего излучения, которая была бы безопасной или риск заболеть от которой (даже лейкозом) был бы равен нулю...
Радиоактивные благородные газы (РБГ) являются основным источником облучения населения при нормальной эксплуатации АЭС. Особый вклад вносит криптон-85 с периодом полураспада 10,7 лет...
Я хотел бы выразить большое недовольство относительно распространенной в атомной энергетике практики ,,сжигания" и ,,выжигания" временных ремонтных рабочих. Под этим мы подразумеваем привлечение плохо проинструктированного и неподготовленного персонала к временному выполнению „горячих работ" (радиоактивных). Из-за отсутствия понимания риска хронического облучения такой персонал с большой вероятностью может создать радиационные аварии, в результате которых может быть причинен вред как ему, так и другим людям. Я считаю практику „выжигания" персонала глубоко аморальной, и до тех пор, пока в атомной энергетике не откажутся от подобной практики, я перестану быть активным сторонником этой отрасли...
За последние 10—15 лет новые данные показали, что риск раковых заболеваний людей под воздействием радиации в десять или более раз выше, чем мы считали в 1960 году, и что не существует безопасной дозы...»[5]
--------------------
[5] К. Морган. Пути уменьшения радиационного воздействия атомной энергетики в будущем. М.: Атомиздат, 1980. С. 59—64.// Безопасность ядерной энергетики/Под ред. Раста и Уивера.
--------------------
И все же хочется закончить хронику словами выдающегося советского ученого, действительного члена Академии медицинских наук СССР, крупнейшего специалиста по лечению лейкозов Андрея Ивановича Воробьева. Вот что он сказал в связи с Чернобыльской катастрофой:
«Вы можете себе представить, что будет с планетой, если разбомбить атомные электростанции даже обычными боеголовками, без ядерных зарядов? Представить человечество в таком ампутированном виде не может ни один цивилизованный человек. Думаю, что после этой аварии должно закончиться средневековое мышление человечества.
Очень многое требует сегодня переоценки. И хотя количество жертв в результате аварии ограниченно, а большинство пострадавших останется в живых и выздоровеет, происшедшее в Чернобыле показало нам масштабы возможной катастрофы. Это должно буквально переформировать наше мышление, в том числе и мышление любого человека, кем бы он ни был — рабочим или ученым. Ведь ни одна авария не бывает случайной. Значит, надо понимать, что атомный век требует такой же точности, с какой рассчитываются траектории ракет. Атомный век не может быть в чем-то только одном атомным. Очень важно понять, что сегодня люди должны знать, например, что такое хромосомы, так же хорошо, как знают они, что такое четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Без этого нельзя жить. Хочешь жить в атомном веке — создавай новую культуру, новое мышление...»
Хотелось бы верить, что предлагаемая читателю «Чернобыльская тетрадь» поможет в формировании такой новой культуры.





Информация