Реабилитирован посмертно. Прерванный полёт Павла Гроховского (часть 1)

Человек, способный на поступок
Павел Игнатьевич родился в 1899 году в Вязьме, но его детство прошло в Твери. Здесь он окончил начальную школу, а затем поступил в реальное училище. Буйный нрав и упрямый характер не позволили Павлу Игнатьевичу остаться в стороне, когда вспыхнуло Октябрьская революция в октябре 1917 года. А в годы Гражданской войны он воевал на стороне красных. За время противостояния Гроховский принял участие в сражениях против Колчака, Врангеля, Деникина. Находясь в отряде Кожанова, ему довелось добраться до персидской границы. И в 1919 году Павел Игнатьевич стал членом партии большевиков.
Затем судьба занесла его на Балтику. Здесь командиром и наставником молодого Гроховского стал председатель Центрального комитета Балтийского флота (Центробалта), командир революционных моряков Павел Ефимович Дыбенко.
Павел Ефимович быстро разглядел в тезке, который был моложе него на десять лет, человека сообразительно, умного и дальновидного. Поэтому довольно часто обращался к нему за советом. Причем спросить мнения подчиненного Дыбенко мог как в каком-нибудь бытовом вопросе, так и в организации военной операции. В последнем случае, Павел Ефимович сажал напротив себя Павла Игнатьевича и совместными усилиями они, что называется, устраивали мозговой штурм. И однажды командир, в знак благодарности, подарил своему подчиненному маузер с надписью на рукоятке: «Павлу Гроховскому от Павла Дыбенко».
За Гроховским прочно закрепилась репутация человека, который «способен на поступок». Причем этот самый «поступок» мог быть абсолютно любым. Вот, например, один из эпизодов жизни Гроховского, о котором написал Владимир Казаков в своей повести-хронике «Право на честь», вышедшей в журнале «Волга» в 1985 году: «Как-то в отряд Волжской флотилии, где служил Гроховский, прилетел с донесением летчик на гидроплане. Как ни просил его Гроховский прокатить, тот не соглашался, ссылаясь на нехватку горючего. Тогда, уговорив летчика остаться в отряде до рассвета, Гроховский с группой бойцов проник в город, занятый белыми, и раздобыл там бочку с бензином, которую ночью на санитарных носилках принесли в расположение отряда. Утром летчик прокатил Гроховского, однако восторга на его лице не увидел.
— По хорошей дороге я тебя на автомобиле обгоню, — думая о чем-то рассеянно сказал Павел. – Из рогатки тебя сбить можно».
Вот еще интересный эпизод: «Приехав однажды к родным на побывку, Гроховский неожиданно оказался в водовороте эсеровского мятежа. Близкий друг детства выдал его эсерам, и те приговорили коммуниста Гроховского к расстрелу. В тюрьму его сопровождал лишь один конвоир. Проходя мимо трактира, Гроховский предложил отведать яичницы и выпить водки за его счет. Конвоир согласился, и когда уже сидел с набитым ртом, арестованный сказал:
— Ты, браток, закусывай, пей, а я на минутку в гальюн загляну, — и тут же скрылся через заднюю дверь трактира».
В самом конце 1920 года Павел Игнатьевич поднялся по службе. Не обошлось, конечно, без протекции старшего товарища Дыбенко. И Гроховский получил должность комиссара Черного и Азовского побережий. На тот момент комиссару был всего лишь двадцать один год. Новая работа требовала частых командировок. И одна из них едва не стала для Гроховского последней. Так случай, чуть было не закончившийся трагедией, описал Казаков: «На поезд напала банда попа-атамана Никандра. Комиссара взяли спящим. На допросе он молчал. Тогда поп хватил его по ключице ребром тяжелого нагрудного креста. Хрустнула кость. Разжав окровавленные губы, комиссар плюнул в окладистую поповскую бороду. Утеревшись, тот сказал:
— В кучу! Мандат прилепите ему, как дьявольский знак.
Мандат комиссара прикрепили на уровне сердца и выстрелили из трехлинейки. Гроховский медленно упал на спину. Для верности бандит выстрелил в упор еще раз. Комиссара раздели, сняли с него сапоги. Но ночью Гроховский очнулся. Обе пули сантиметра на два прошли выше сердца. Железнодорожные рабочие подобрали его и отправили в госпиталь».
Серьезное ранение не остудило пыл Гроховского. Спустя короткое время после того, как его выписали из госпиталя, парень решил осуществить свою давнюю мечту – стать летчиком. Поэтому первым делом, встав с больничной койки, он написал рапорт, в котором попросил направить его на учебу в школу авиационных мотористов. Трудно представить, что испытывал Дыбенко, отпуская своего, по сути, лучшего подчиненного. Но чинить препятствий он не стал. Видимо, его поразило мужество поступка Гроховского. Ведь Павел Игнатьевич оставлял высокий и престижный пост и начинал, по сути, с нуля. Однако этот поступок не был лишен логики. Дело в том, что у Гроховского отсутствовало среднее образование, а значит, только путь в летное училище через школу авиационных мотористов являлся кратчайшим.
Талант изобретателя
И вот здесь Павел Игнатьевич оказался на своем месте. В нем проснулся дремавший ранее талант изобретателя. Став командиром звена в Новочеркасске, он смог, что называется, развернуться. Первым делом он начал лично обучать молодых пилотов высшему пилотажу, стрельбе в воздухе и бомбометанию. Но результаты, в большинстве случаев, оставляли желать лучшего. Особенно много проблем возникало с бомбами. Требовалось немало усилий, чтобы получить их для проведения учений. Дело в том, что в те времена для тренировки использовали цементные бомбы, которые являлись дорогостоящими из-за дефицита в стране цемента (его даже приходилось закупать за границей). Поэтому Гроховский, который всегда в первую очередь думал об экономии, обратился к своему начальству с рацпредложением. Павел Игнатьевич заявил, что дорогие цементные бомбы стоит заменить на более дешевые глиняные, наполненные цветным мелом и песком. При этом цветной мел имел важное значение. На учениях у каждого летчика был бы свой цвет, по которому уже потом определяли бы, кто и как «отстрелялся».
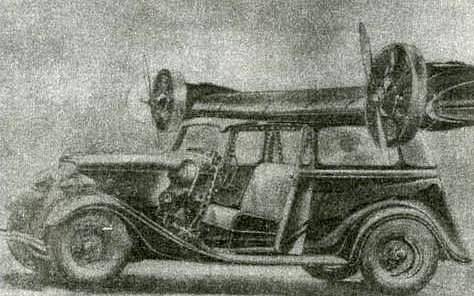
И пока над его предложением раздумывали, Гроховский привел в часть гончара и устроил его здесь на работу. Мастер «творил», а сам Павел Игнатьевич привозил ему в телеге глину, которую добывал недалеко от расположения авиаотряда. Первые же испытания показали, что Павел Игнатьевич был прав. И вскоре глиняные бомбы стали называть «силикатная Гроховского».
О молодом и талантливом летчике-изобретателе узнал начальник Военно-Воздушных сил РККА Петр Ионович Баранов. Поэтому вскоре Гроховский перебрался в Москву. Ему дали должность летчика-испытателя в научно-исследовательском институте ВВС РККА.
Здесь Павел Игнатьевич продолжил работу над изобретениями. А его главным помощниками стали конструкторы Владимир Малынич и Иван Титов. Но Гроховский понимал, что втроем им не удастся добиться тех результатов, которых им бы самим хотелось. Поэтому он попросил помощи у Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Васильевича Косарева. Встреча их прошла удачно, Александр Васильевич пообещал оказать изобретателям полную поддержку.
Договорившись с «верхами», Гроховский принялся за реализацию своего давнего замысла — попытаться спасти жизнь пилота при аварийной ситуации в воздухе. Дело в том, что в Советском Союзе тогда не использовали парашюты, отечественного производства. Просто самой парашютной промышленности, как класса еще не существовало. Да и многие высокопоставленные чины к «тряпочкам» относились нейтрально-отрицательно. Поэтому в двадцатых годах парашюты и вовсе были запрещены. И это табу продержалось до 1927 года. Затем, было распоряжение об испытании парашютов, но это только на бумаге. По факту, ни одного прыжка так и не было совершено, а советские специалисты, работавшие в этом направление, трудились, что называется, в стол. Яркий пример — это парашют Глеба Котельникова, который «числился в запасе», проиграв конкуренцию продукции американской компании «Ирвин».
Вообще, знакомство советских летчиков с американскими парашютами произошло весной 1929 года. Тогда летчика Леонида Минова отправили в США, чтобы он лично увидел, как работает аварийно-спасательная служба в американской авиации. А тринадцатого июля Минов совершил первый прыжок над Буффало. Затем последовало еще несколько прыжков. Поскольку результат эксперимента был положительным, СССР закупил партию американских парашютов за бешеные по тем временам деньги.
Двадцать шестого июля 1930 года во время учений ВВС Московского военного округа, которые проходили на воронежском аэродроме, Леонид Минов стал, чуть ли не главным действующим лицом. Он выполнил показательный прыжок, затем настала очередь еще нескольких летчиков. А второго августа по распоряжению Петра Баранова была «продемонстрирована выброска группы вооруженных парашютистов для диверсионных действий на территории «противника»». Всего прыжки в тот день совершили двенадцать человек. И второе августа стало считаться днем рождения Воздушно-десантных войск РККА.
Испытал на себе «американское чудо» и Гроховский. Примечателен тот факт, что все окружение отговаривало Павла Игнатьевича от опрометчивого поступка. Друзья и жена категорически были против затеи с самоличным испытанием американского парашюта. Но Гроховский лишь отмахнулся от них, поскольку для себя самого он давно все решил. Он считал, что настоящий конструктор должен лично участвовать в экспериментах, какими бы опасными они не были.
День, который Павел Игнатьевич выбрал для прыжка, оказался неудачным. Уже с утра погоду испортил сильный ветер, который дул со скоростью порядка четырнадцати метров в секунду у земли. Соответственно, на высоте его скорость была еще выше. В очередной раз отмахнувшись от просьб «одуматься», Гроховский взял парашют и направился к самолету «Фоккер С-4». Когда крылатая машина поднялась на нужную высоту, Павел Игнатьевич вылез на крыло. Затем лег на него, одной рукой ухватившись за вертикальную стойку, а другой – за вытяжное кольцо парашюта. Дождавшись отмашки пилота, Гроховский разжал руку, удерживающую его на крыле. И через мгновение он уже оказался в свободном полете. Павел Игнатьевич потянул за кольцо и… свою роль сыграл мощный порыв ветра. Раскрывшийся купол «Ирвина» снесло так «удачно», что он зацепился за опору фюзеляжа. И несколько секунд самолет тащил за собой Гроховского. По воспоминаниям Павла Игнатьевича, он не понял сразу, что произошло, поэтому и не успел испугаться. Спустя мгновения шелковая ткань парашюта лопнула, и Гроховский, освободившись, начал медленно опускаться вниз. Из-за потерянного времени парашютист миновал летное поле и парил уже над Москвой. Такого столица СССР еще не видела. Правда, Гроховский полетел еще дальше, приземлившись уже на окраине города. Посадка была удачной, вот только рядом с ним оказался большой цыганский табор. Пока к Павлу Игнатьевиче добралась помощь, пока он принимал поздравления, цыгане не потратили зря и секунды. Они быстро разглядели, что «Ирвин» сшит из японского шелка. И спустя мгновения купола как не бывало, зато вскоре цыганки щеголяли в новых платьях из американского парашюта…
Это происшествие сильно огорчило конструктора, поскольку за одного «Ирвина» приходилось платить тысячу валютных рублей золотом. Гроховский понимал, что японский шелк в силу себестоимости не годится, требовалась дешевая ткань. Советская авиация развивалась быстрыми темпами, как и необходимость в парашютах. Нужно было срочно принимать какое-то решение.

Затем Павел Игнатьевич совершил еще три прыжка. Правда, последний едва не завершился трагедией. Но вновь судьба сохранила ему жизнь. Из-за проблем с парашютом и жестким приземлением, Гроховский получил тяжелые травмы, которые вызвали частичную парализацию. И пока он лечился, продолжал работу над парашютом. А главным его помощником была, конечно, жена. Словно некое заклинание, Павел Игнатьевич твердил, что отечественный парашют должен быть не только устойчивее американского, но гораздо дешевле. Последнее особенно сильно волновало изобретателя. Ведь он понимал, что если парашют дорогой, он полноценных десантных войсках можно даже не мечтать. Только дешевый позволит совершать прыжки тысячам солдат. А также появится возможность десантировать и технику. И когда Павел Игнатьев выздоровел и смог нормально ходить, он вместе с женой устроил марш-бросок по магазинам. Изобретатель решил, что самая дешевая ткань вполне сможет годиться для пошивки купола. Он сам пробовал на ощупь нансук, перкали, батист и другие материи. А затем, когда образцов стало достаточно, стал проводить опыты. Лидия Алексеевна шила из образчиков небольшие парашюты, а Гроховский забирался на крышу и экспериментировал, пытаясь выяснить, как они ловят ветер.
Информация