Мифы Цусимы
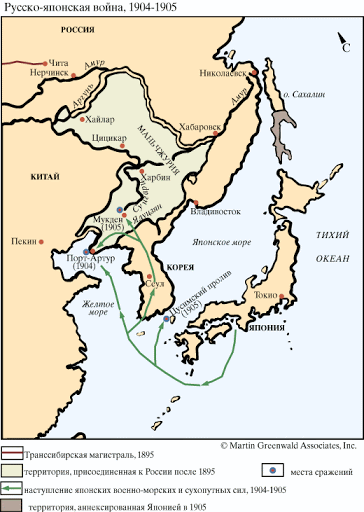
Начать надо с того, что вся информация давно выложена. И не секретна.
Письма и дневники участников похода. Их показания следственной комиссии и в суде. Для любителей – даже документы японские...
Бумаг (замечу, давно оцифрованных) тонны. Их надо только прочитать и подумать.
Не советские мемуары 30-х годов от Костенко и Новикова. Не еще имперские – Семенова. А показания людей, которые несли ответственность за свои слова. И лгать им было крайне сложно.
К делу в те времена подошли ответственно. И опрошены были сотни людей: от матросов и до адмиралов. Так что то, что говорится в показаниях, истина. Точнее то, как ее видели участники.
Да и японские планы опубликованы давно. И тоже не секретны.
Так что про мифы.
Миф первый. Неверный путь
Первый из них – неверный выбор пути прорыва.
Собственно говоря, сам по себе выбор пути был очевидным. Ввиду того, что единственной целью эскадры мог стать только Владивосток.
В него можно пройти тремя маршрутами – проливы Цусимский, Сангарский и Лаперуза. Находясь в Мозампо, о чем Рожественский был осведомлен, японцы контролировали все три маршрута.
Сам Рожественский в своих показаниях говорит очевидные вещи:
Ввиду того, что японцы публикациями обеспечили себе право прибегать в том проливе к пользованию плавучими минами и заграждениями в подходящих местах. И потому, что сравнительно медленное движение эскадры к Сангарскому проливу было бы, непременно, с точностью выслежено японцами и их союзниками.
И прорыв был бы прегражден теми же сосредоточенными силами японского флота, какие были противопоставлены нашей эскадре в Корейском проливе.
Что же касается перехода в мае месяце от Аннама во Владивосток через Лаперузов пролив, то таковой представлялся мне совершенно невозможным: растеряв в туманах часть судов и потерпев от аварий и крушений, эскадра могла быть парализована недостатком угля и стать легкою добычей японского флота».
В Сангары лезть безумие. В Лаперуза туманы и навигационная опасность, что и доказала судьба трофейной «Олдгамии».
В случае аварии любого корабля эскадры при проходе Курильской гряды или в самом проливе – только бросать. Хорошо если транспорт.
А если Бородинец?
А если несколько?
К тому же в итоге все равно бой, имея сеть постов наблюдения и полсотни вспомогательных крейсеров и опираясь на мощную систему базирования, японцы перехватывали бы эскадру по любому.
Цусимский же пролив позволял попытаться поиграть с противником в кошки-мышки, что и делалось – и отправкой пустых транспортов в Шанхай, и рейдом вспомогательных крейсеров, и намеренным затягиванием времени перехода.
Не вышло. Не доработали.
Но шанс был.
Миф второй. Отвлечение сил
Если бы послали старые корабли в обход...
То потеряли бы старые корабли.
Дальше была бы картина – Зиновий прибывает во Владивосток с 5 линейными кораблями, 6 крейсерами и все.
За этот прорыв мы платим 3 линейными кораблями, броненосным крейсером, тремя броненосцами береговой обороны, двумя бронефрегатами, девятью эсминцами и транспортами. Если знать результаты сражения – нормально. Но на эскадре то ли хрустальные шары были устаревшие, то ли вышли из строя...
Одним словом, угробить большую часть эскадры для спасения меньшей – казалось не совсем умной идеей.
Аналогично послать отряд пошуметь у берегов Японии.
Его послали.
С единственных океанских кораблей, способных и пострелять, и уйти – вспомогательных крейсеров. Других таких с приличной скоростью и высокой автономностью не было.
Не вышло.
Даже соглашусь – выйти и не могло.
А альтернативы?
Послать на убой тихоходы? Оторвать от эскадры «Ослябя»? Или погнать оба современных крейсера 1 ранга, оставив эскадру без прикрытия?
А если не выйдет?
Миф третий. ВОК

Вот если бы «Россия» и «Громобой» пришли...
Ну, во-первых, пришли ли бы?
Предыдущая попытка рандеву вслепую закончилась свиданием с Камимурой и утоплением «Рюрика», прямой связи-то нет.
Если же сообщить заранее – есть шанс, что о планах узнают японцы.
Во-вторых, – а толку-то?
Два огромных рейдера в линию ставить глупо. Передавать Энквисту – бессмысленно.
Тогда как риск двумя относительно современными исправными кораблями имеет место быть.
А они нужны в случае успешного прорыва и продолжения войны. Да и элементарное – встретить и прикрыть поврежденные корабли должно наличествовать.
Документов нет.
Но логика видна четко.
Миф четвертый. Разведка
Вот если бы послали разведку...
Слово адмиралу:
мне следовало послать таковую же цепь не менее, чем на сто миль вперед от эскадры, дабы эта цепь, внезапно обрушившись на неприятельскую разведку, дала знать второй эскадре по беспроволочному телеграфу о месте нахождения неприятельских разведчиков,
по крайней мере, десятью часами ранее, чем неприятельская цепь могла сама открыть эскадру, шедшую без разведчиков (если бы эскадра шла без разведчиков)».
Жиденькая бы цепь вышла.
Аж в один дальний разведчик с проблемными машинами...
«Аврора» – тихоход, «Светлана» – тоже. Камушки все-таки для другого придуманы, да и автономность...
Ну ладно, послали, обнаружили, и что?
И так ясно – японцы здесь, атакуют днем, а потом и ночью. Незамеченным в узости не пройти. И что разведывать то?
Про «обрушившись» – смешно. Попытка обрушится привела бы к гибели крейсеров. У японцев кораблей этого класса тупо больше. При сравнимых скоростях.
Миф пятый. Скорость
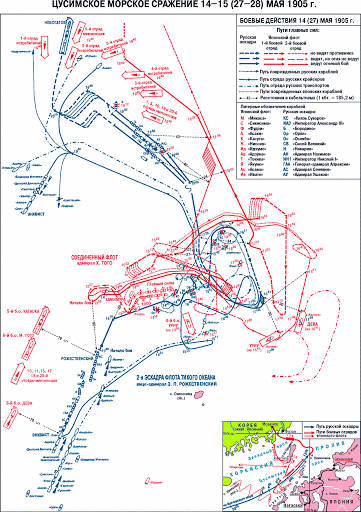
Вот честно, достали сказки о колоне с транспортами, из-за которых ход был 9 узлов.
Во-первых, в линейной колоне не было ни транспортов, ни крейсеров с эсминцами. Они шли отдельно. И основным силам не мешали.
Во-вторых, 9 узлов – это средняя по больнице скорость эскадры.
И причины участники боя видели по-другому:
«I и II броненосным отрядам иметь 11 узлов ходу, повернуть последовательно на 8 румбов вправо».
Минут через 5 с «Суворова»:
«II броненосному отряду (Ф) курс NO 23°»...
От 1 часу 30 мин. – из мглы справа по носу сразу вырисовываются силуэты неприятельских броненосцев. Головным идет «Миказа», за ним «Фуджи», «Шикишима», «Асахи», броненосные крейсера: «Касуга», «Ниссин».
Они идут в одной кильватерной колонне, собираясь резать нам нос справа налево.
Расстояние до них больше 70 кабельтовов; можно различить их стеньговые и гафельные флаги.
Адмирал поднимает сигнал:
«Иметь 11 узлов ходу».
И передает семафором по линии:
«68 оборотов».
Вот отрывки из показаний офицеров «Орла». Как видим, постоянной скорости не было, в процессе маневрирования от 8 до 11 узлов. Больше никак:
такой плохой ход был потому, что носовое отделение броненосца было затоплено, и он сильно буровил воду;
думаю, что, не имея затопленного носового отделения, он мог бы дать до 12 узлов».
ББО больше 12 не вытягивали, да и те:
Безостановочную работу машины приходилось поддерживать лишь крайне напряженными искусственными мерами, как сильная смазка, промывка теплой водой, заливание и прочее, причем одна минута недосмотра могла погубить все дело».
По словам старшего механика броненосца «Сенявин» К. И. М. флота Поручика Яворовского, с трудом. «Сисой Великий» был пошустрее, если верить его стармеху полковнику Боровскому:
Единственным недостатком была течь трубок холодильников, что на ход броненосца влияния не имело – машины работали без отказа.
Так как броненосец был перегружен во время боя, думаю на 6", то самый полный ход мог быть не больше 14½ узлов».
Мог на короткое время разогнаться аж до 14 узлов. Постоянно, значит, на узел-два меньше.
Шустрее всех были Бородинцы:
14 узлов держали легко.
Ну, кроме самого «Бородино». Итог – предельная 12, эскадренная 10–11, что собственно и было без всяких транспортов.
Миф шестой. Не было плана боя
Читаем:
Быть ежечасно готовыми к бою.
В бою линейным кораблям обходить своих поврежденных и отставших передних мателотов.
Если поврежден и не способен управляться «Суворов», флот должен следовать за «Александром», если поврежден и «Александр» – за «Бородино», за «Орлом».
При этом «Александр», «Бородино», «Орел» руководствуются сигналами «Суворова», пока Флаг Командующего не перенесен или пока в командование не вступил Младший Флагман.
Миноносцы I отделения обязаны неусыпно следить за Флагманскими броненосцами: если Флагманский броненосец получил крен, или вышел из строя и перестал управляться, миноносцы спешат подойти, чтобы принять Командующего и Штаб.
Миноносцам «Бедовому» и «Быстрому» быть в постоянной готовности приблизиться с этой целью к «Суворову», миноносцам «Буйному» и «Бравому» – к другим Флагманским броненосцам.
На миноносцы II отделения возлагается та же обязанность по отношению к крейсерам «Олегу» и «Светлане».
Флаги Командующего будут при этом переноситься на соответствующие миноносцы пока не представится возможным перенести их на линейный корабль или крейсер».
Еще читаем:
При пристрелке следует, не добросив первый снаряд, непременно перебросить второй и, если первый лег вправо, то непременно положить второй влево…
Взяв же цель хотя бы и в широкую вилку, следует третьим выстрелом распоряжаться подумавши.
…На будущее время строжайше воспрещаю как на ученьи, так и в бою бросать 12” бомбы, не имея корректурных данных за 15 минут до выстрела».
И еще читаем:
Приказ № 29 от 10 января 1905 года.
Если Бог благословит встречей с неприятелем в бою, то надо беречь боевые запасы – не бросать их без толку.
Сигналом будет указан номер неприятельского корабля, по счету от головного в кильватере или от правого фланга во фронте. На этом номере следует сосредотачивать по возможности огонь всего отряда.
Если сигнала не будет, то, следуя флагманскому кораблю, сосредотачивается огонь, по возможности, на головном или на флагманском корабле неприятеля.
Сигналом же может быть намечен и слабый корабль, чтобы легче достигнуть результата и произвести замешательство.
Так, например, при сближении встречными курсами и после сосредоточения огня на головном может быть указан номер, на который должно быть направлено действие всей артиллерией первого (головного) отряда эскадры, тогда как второму отряду предоставлено будет продолжать действовать по первоначально избранной цели.
Во всех случаях, если расстояние более 30 кабельтов, не следует открывать огонь всем вдруг: так нельзя пристреляться, нельзя отличать, где падают снаряды.
Пусть начинает пристрелку на большие дистанции всегда головной на встречных курсах и концевой на курсах, направленных в одну сторону, если они ближе к неприятелю, но пусть не медлят показать расстояние и отклонение целика 6" орудий, как скоро начнет класть близко снаряды».
Не было единого документа для идиотов, которыми Зиновий младших флагманов и каперангов не считал.
Для подчиненных был набор наставлений. Последнее – за четыре дня до боя.
Цитирование можно продолжить, расписано все.
Другой вопрос, что многое в планах на совести младших флагманов. А с этим не сложилось – Бэр погиб с «Ослябя», не успев отдать приказы. А Небогатов воздержался от ответственности, хотя имел все права:
В случае встречи неприятеля при следовании эскадры, днем, в походном порядке предписываю руководствоваться приказом моим от 22-го января с.г. за № 66 со следующими дополнением:
III-й броненосный отряд, маневрируя по сигналам своего флагмана, во всех случаях спешит присоединиться к главным силам, увеличивая для этого ход, насколько возможно при имеемом числе котлов, и разводя пары в остальных.
Если же неприятель в больших силах покажется сзади, то ему надлежит сдерживать его натиск и прикрывать транспорты до прибытия главных сил.
Порядок маневрирования отряда вправо, влево, вперед или назад от походного строя в зависимости от места появления неприятеля, имеет быть теперь же разработан и объявлен командующим III-м броненосным отрядом.
Впрочем, как и от разработки инструкций.
Зато на суде врубил дурака. И начал доказывать, что он в домике:
какие намерения имел адмирал Рожественский – это было для меня вполне неизвестно».
Что правда легко понять – высшая мера в качестве приговора Небогатова не устраивала. И надо было валить на кого-то свою вину. На японцев – глупо, на себя – самоубийственно. Оставался командующий.
Мифы можно крушить и дальше.
Все они построены на одном фундаменте – на знании того, что произошло.
Но даже 13 мая 1905 года никто на эскадре не мог даже предположить такого итога.
И действовали соответствующе – готовились к прорыву с потерей нескольких судов и к артиллерийскому бою на дальних дистанциях по мотивам Желтого моря. Для такого боя нужна концентрация огня тяжелых орудий – ее и обеспечивали боем в единой колонне, с концентрацией огня поотрядно, уделяя повышенное внимание управляемости эскадры.
Опять же – не вышло.
Виновен ли в этом Рожественский?
Как и любой командир виновен.
Мог ли он поступать по-другому?
Исходя из его знаний и опыта, нет.
Мог ли кто-то другой сделать лучше?
Нет, конечно.
Для этого нужен был другой флот и государство.
В трагедиях виновных не бывает.
Информация