Советская историография о винтовке капитана Мосина
Это что-то вроде вступления. То есть историография очень важна и для прояснения информационной составляющей любого вопроса, и для… лучшего понимания времени, когда те или иные работы писались. Последнее тоже важно. Это как отпечатки лап динозавра на окаменевшей глине.
«Комсомолка» 1977 г.
Ну, а теперь ближе к теме. Перед вами, уважаемые читатели, статья советского времени, а именно 1977 года, напечатанная в «Комсомольской правде», и представляющая собой рецензию на первую серию кинофильма «Звездные войны». Напомним, что этот фильм в СССР тогда не демонстрировался. Кадры из него можно было увидеть лишь в кинофильме «Возвращение резидента», но сами «Звездные войны» гражданам России удалось посмотреть только лишь после 1991 года. Еще раз перечитаем эту «заметку» и отметим, что «слово по-настоящему волшебная вещь» (как говорил некий Дамблдор). Впрочем, еще древний Эзоп утверждал, что именно язык есть и самое прекрасное, и самое омерзительное из того, что есть на свете. Берем нужные слова, определенным образом их располагаем, и получаем желаемый эффект – «там» все плохо, и кино у них тоже примитивное. Одним словом – «Запад загнивает». Но писать так можно было не только про западное кино и совершенно отвратительный тамошний образ жизни, но и с противоположным качеством уже про наши достижения. По схеме – «там» все плохо, у нас «хорошо». Такая вот черно-белая подача информации – простая и понятная для самого примитивного ума.
Ну, и, разумеется, аналогичными приемами советские авторы пользовались и при описании различных технических достижений, имевших место в нашей отечественной истории и, в частности, все той же винтовки капитана Мосина!
В предыдущих статьях на эту тему рассказ о том, как она создавалась и как получила свое обезличенное название, был основан на фотокопиях архивных документов из Санкт-Петербургского музея Артиллерии и войск связи. В тамошнем архиве эти материалы находились с 1891 года, написанные еще пером и чернилами, и посмотреть их могли как историки до, так и после 1917 года. И, наверное, они к ним обращались. Но вот что, однако, выходило уже из-под их пера…
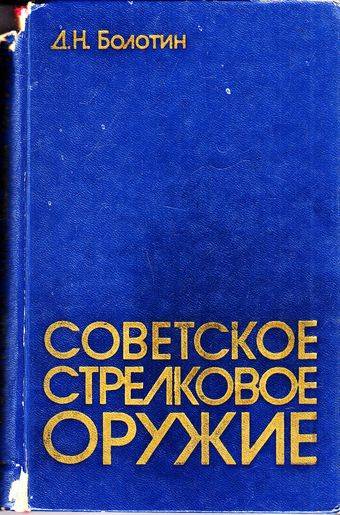
Книга Д.Н. Болотина
Вот что, например, написано в книге Д.Н. Болотина «Советское стрелковое оружие. (М.: Военное издательство, 1986, с.40): «Давая оценку детищу русского изобретателя, А.А. Благонравов писал: «Ни одному изобретателю за рубежом не удалось достигнуть такой удивительной законченности в конструировании не только винтовки, но и какого-либо другого вида огнестрельного оружия»» (Взято из книги В.Н. Ашуркова «С.И. Мосин –создатель русской винтовки (1849 – 1902). М.,1951. С.5.) Заявление, конечно, лестное, но… по меньшей мере спорное, пусть даже и высказал его А.А. Благонравов. Как раз за рубежом нашлось немало изобретателей, создавших образцы оружия не хуже мосинского образца. А уж если судить по географии распространения тех или иных винтовок, например, той же винтовки маузер, то можно будет сделать вывод совсем о другом. Дело в том, что обычно люди покупают или самое лучшее, или самое дешевое. И тут возникает вопрос, а какие страны, кроме России, имели на вооружении эти винтовки? Понятно, что всякая лягушка свое болото хвалит, однако надо же и меру знать, не так ли? То есть написать так, чтобы и против истины не сильно погрешить, и себя похвалить. Просто немного подумать головой и поработать со словами. Хотя вот так, «с плеча», писать, конечно, проще и выгоднее во всех отношениях.
Но авторы, умевшие писать иначе у нас в СССР, тем не менее, были! Обратимся к такому капитальному труду, как монография В.Г. Федорова, который так и называется – «История винтовки». Первоначально изданный в 1930 году и переизданный затем в 1940-ом, этот труд считается классической работой по данной теме. И вот, что мы читаем на странице 94: «16 апреля 1891 г. винтовка С.И. Мосина была принята для перевооружения русской армии. Так как в этой винтовке не все части были изобретены С.И. Мосиным, причем имелись детали, разработанные членами комиссии или выполненные по идее Нагана (обойма), то при утверждении образца винтовка она не получила имени С.И. Мосина, а была названа «русской 3-линейной пехотной винтовкой обр. 1891 г.». Как вы видите, здесь сразу же расставлены «все точки над и», дана исчерпывающая и правдивая информация и нет ничего про царя-русофоба, преклонявшегося перед Западом, и взяточника министра Ванновского.
Далее на стр. 95, 96, 97 достаточно подробно рассматривается вклад С.И. Мосина в создание русской трехлинейной винтовки. При этом автор объясняет, почему соответствующий образец 1891 г., принятый на вооружение русской армии… не был назван именем С.И. Мосина. «Оружейный отдел артиллерийского комитета, разбиравший вопрос о том, на какие детали винтовки С.И. Мосин мог бы получить привилегию, отметил, что им разработаны следующие части: …» То есть он использовал те же самые документы из архива музея Артиллерии, фото которых были ранее приведены здесь автором данной статьи. То есть все было известно, прозрачно, но могло трактоваться… разными авторами по-разному.
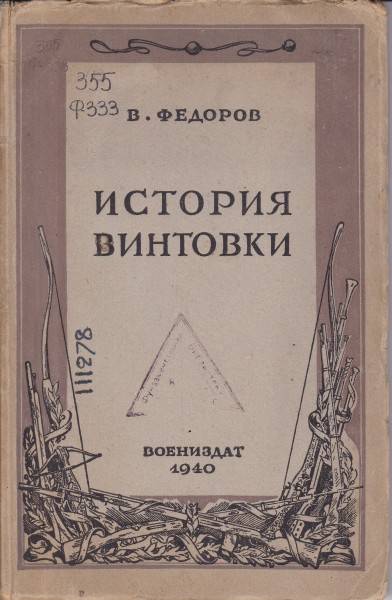
Книга В.Г. Федорова
В конце главы, В.Г. Федоров замечает, что «Вопрос о названии 7,62-мм винтовки широко дебатировался и вызвал много споров среди оружейных деятелей того времени. Однако, независимо от принятых решений, нужно категорически признать, что в деле конструирования нашей 7,62-мм винтовки, состоящей на вооружении Красной Армии, работы Мосина имеют первенствующее значение».
Вряд ли нужно подчеркивать, что каждое слово в приведенном абзаце взвешено и соответствует действительному положению дел, как, впрочем, и все, что он написал ранее, как основанное на документах. Правда и в том, что никаких восхвалений «наилучшего советского» и хуления всего западного он тоже не содержит. Словом, честный и порядочный человек он был, и власти-то новой особенно не кланялся. Кстати, книга В.Г. Федорова сегодня оцифрована и имеется в Интернете, ее можно бесплатно скачать и прочитать.
Однако нельзя все время переиздавать одни и те же книги – растут новые люди, меняется стиль речи, «людям просто хочется новенького», поэтому впоследствии, после книги Федорова, появились и другие издания на эту же тему и в их числе в свое время исключительно популярная книга Н.И. Гнатовского и П.А. Шорина «История развития отечественного стрелкового оружия» (М.: Военное издательство, 1959 г.) В непрофессионализме их не упрекнешь: первый – кандидат технических наук, доцент, полковник-инженер, второй – инженер-подполковник.
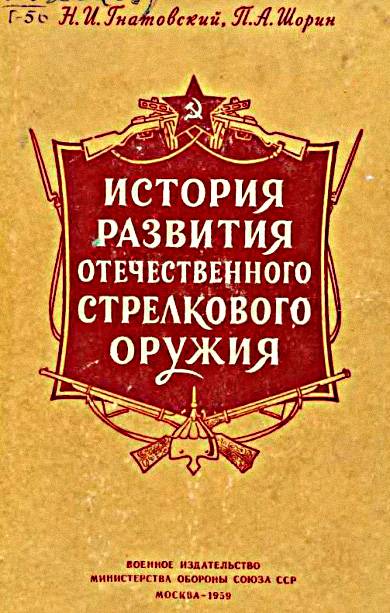
Книга Н.И. Гнатовского и В.А. Шорина
Наверняка они могли иметь допуск к материалам вышеназванного архива, не могли не иметь, но тем не менее в их описании «борьба за винтовку» выглядит так: «Комиссия к этому времени уже имела конструкцию будущей магазинной винтовки системы Мосина, превосходившую по своим данным систему Нагана и другие иностранные системы. Казалось бы, на ней и следовало остановиться. Однако в успех русского конструктора верили мало. Этим не преминул воспользоваться Наган. Зная отношение правящих кругов и военного ведомства к иностранной технике и иностранцам, Наган добился заключения выгодного для себя контракта с русским правительством». (Указ. соч. с.139-140) Здесь вряд ли стоит повторяться и писать о том, о чем уже сообщалось в ранее вышедших здесь на ВО материалах. Проще их перечитать и убедиться в том, что все это было не совсем так. И договор с Наганом предусматривал от него получение не только самой винтовки, но и того, чего Мосин при всем своем таланте дать не мог: сведений о допусках и технологиях закалки, измерительный инструмент и технологическая оснастка, да еще и патенты, как уже имеющиеся, так и будущие! Об этом у авторов, однако, нет ни единого слова!
Зато у авторов есть вот это: «13 апреля 1891 г. Ванновский представил царю доклад «Об утверждении образца пачечного трехлинейного ружья, предложенного капитаном Мосиным». В этом докладе Банковский вынужден был признать, что система, предложенная Мосиным, заслуживает предпочтения перед системой Нагана. Вместе с тем Ванновский принял все меры к тому, чтобы обезличить винтовку Мосина; он предложил назвать ее русской трехлинейной винтовкой обр. 1891 г. 16 апреля 1891 г. Царь утвердил образец винтовки Мосина и велел именовать эту винтовку «трехлинейной винтовкой обр. 1891 г.», удалив из ее наименования даже слово «русская». Так была нарушена традиция присваивать образцу оружия имя его конструктора и устранен последний намек на отечественное происхождение вновь вводимой винтовки.
Особое удивление здесь вызывают подчеркнутые слова и фразы. Непонятно и другое: а на чем все это основано? Ведь если сравнить этот текст с текстом В.Г. Федорова, становится ясно, что авторов у винтовки было несколько, отсюда и ее «обезличка». Но авторы не могли не знать и того, почему царь выбросил из ее названия слово «русская» – для этого у него были серьезные причины. Но… не стали они ничего об этом писать, потому что в 1959 году и так уже всем было ясно, что «царизм – это ужасно», «царь Александр III, как и все Романовы, благоговел перед Западом», ну а Ванновский и вовсе был «продажный царский сатрап». Поэтому следовало писать в «духе дня», то есть неудобные для «линии партии» факты игнорировать, а все что только можно использовать для очернения проклятого царистского прошлого – использовать! Как говорят в народе: «Каждое лыко – в строку!»
То есть ни о каком объективном подходе к изучению истории своей страны и речи в СССР не шло. А документы… документы пылились в архивах, будучи невостребованными. Сегодня очень многие люди, ностальгирующие по СССР, жалуются на передергивания и злоупотребления информацией со стороны журналистов и историков эпохи «после 1991 года». И правильно, примеры есть совершенно одиозные. Но… можно ли их за это упрекать? Они учились вот на таких книгах, как творение Гнатовского и Шорина (а были ведь и еще более «завиральные писания»). Которые точно так же откровенно передергивали и писали не то, что есть, а то, что надо. Так что… во всякое время необходимо обращать внимание на историографию, архивные материалы, умело работать со словом и помнить, что, подбрасывая камень вверх, можно потом запросто уронить его себе же на голову! То есть дать повод обвинить тебя в необъективности и подтасовке фактов.

Информация